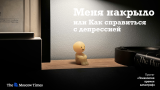Этот цикл статей
посвящен тому, как менялось место евреев, а позднее и место Израиля в восприятии властей и жителей России за последние сто с небольшим лет — от прихода большевиков к власти и до сего дня. Я не буду излагать историю евреев за этот отрезок времени и лишь упоминаю о многих важнейших событиях. Оставлены по большей части за скобками и такие безбрежные понятия, как «русскость» и «еврейскость». Упор сделан только на наблюдаемых результатах взаимодействия «еврейскости» с «русскостью» и на ключевых моментах в российско-еврейских отношениях. Применительно к эпохе, когда Россия была метрополией советской империи, под ее режимом здесь понимается центральная власть СССР.
Почти все евреи империи жили тогда в ее западных провинциях, и в большинстве своем даже не понимали по-русски. Зато в дальнейших русских перипетиях евреи играли особую роль на каждом очередном зигзаге истории. Назовем это великим экспериментом.
Первая статья цикла. Рассказывает о периоде с начала XX века до эпохи Большого террора. Во второй статье — время от Большого террора до смерти Сталина, в третьей — от смерти Сталина до наших дней. Публикация подготовлена медиапроектом «Страна и мир — Sakharov Review» (телеграм проекта — «Страна и мир».
Возникла многомиллионная русско-еврейская среда со своей неповторимой аурой, без которой не представить ни советскую, ни постсоветскую Россию. Драматический уход с российской сцены русско-еврейской среды происходит только сейчас.
Логика «еврейского засилья» с его закономерным восходом и внезапным закатом вполне поддается расшифровке.
Неотменяемая потребность
Чье-либо «засилье» глубоко органично для России. Предшествующее еврейскому, немецкое «засилье» длилось два столетия, вплоть до начала XX века. К I Мировой войне около пятой части высших чиновников Российской империи имели немецкое происхождение, а среди ее «полных генералов» доля этнических немцев составляла 28%.
Немцы занимали выдающиеся места как раз в тех сферах, которые ассоциируют с еврейскими навыками иумениями. Среди двух десятков российских министров финансов, занимавших должность с 1802-го, когда было учреждено это ведомство, и до 1917-го, люди немецкого происхождения составляли почти половину. В том числе такие яркие, как Егор Канкрин (1823–1844), Михаил Рейтерн (1862–1878), Николай Бунге (1881–1886) и Сергей Витте (1892–1903).
В столичном Петербурге к началу ХХ века доля немцев среди жителей составляла 4%, но каждый десятый медик, каждый седьмой ремесленник высшей квалификации и каждый пятый служащий коммерческих учреждений происходил из немцев. Несмотря на уникальные умения и высокую лояльность, судьба российских немцев в ХХ веке была трагической. Волны военных и революционных преследований покончили с их «засильем» и сделали неизбежными «засилья» других национальных групп.
На четвертый год революции, весной 1920-го, в Москве собрался Девятый съезд РКП(б). Корпус его участников более или менее совпадал с новым правящим слоем державы. Из 530 делегатов, заполнивших анкеты, 70% определили себя как русские, а второе и третье места заняли евреи (14,5%) и латыши (6%). Смена одного «засилья» двумя другими состоялась.
Особенности очагов русификации
В начале XX века на территории нынешней РФ жило только 300 тысяч из 5 млн еврейских подданных Российской империи. Подавляющая их часть обитала за пределами теперешней России, внутри казенной «черты оседлости», и толком не владела русским. При переписи 1897 года в качестве родного языка 97% евреев империи назвали идиш, а русский — только 1,35%, 67 тыс. человек.
К 1914-му столичный Петербург по числу еврейских жителей (35 тыс; меньше 2% населения) занимал лишь 13-е место среди городов империи (на первом и втором были Варшава и Одесса), а Москва не попадала дажево вторую десятку. Зато имперская столица стала первым городом, в котором большинство его жителей-евреев достигло высокой степени русифицированности. К началу Первой мировой уже для половины петербургских евреев русский стал языком, на котором они говорили в семейном кругу. Именно там и в меньшей мере в Москве великороссы и евреи впервые начали в крупных масштабах осваивать навыки совместного обитания.
Очагами русификации евреев несколько десятков лет служили и подпольные партии левого толка. К началу 1917-го группировки социалистического подполья были малочисленны, но именно их обычаи, включая и стиль межплеменных отношений, на пару десятилетий стали нормами нового режима.
В момент возникновения большевистский режим был выбором многих, но отнюдь не большинства русифицированных евреев левых взглядов. Не говоря о собственно еврейских социалистических течениях (Бунд, «Поалей Цион»), ассимилированные евреи преобладали среди руководителей русских меньшевиков и были весьма заметны среди эсеров и других антибольшевистских группировок.
И уж точно большевики не были выбором рядовой еврейской массы. Идишеязычное большинство евреев на выборах в Учредительное собрание в ноябре 1917-го почти не дало голосов ленинской партии. В бывшей «черте оседлости» евреи чаще всего голосовали за блок религиозных партий и сионистов.
Те выборы не решили судьбу власти, но показали предпочтения. Большевики получили 23% голосов, уступив только эсерам (39%), их электоральной опорой стали столицы и губернии северо-западной и центральной России. Евреев в этих краях было тогда мало.
Большинство из 81 еврея-депутата Учредительного собрания (одна десятая всего депутатского корпуса) было избрано не «еврейскими», а «русскими» голосами. Среди них оказались 35 эсеров и 31 большевик. Даже и сучетом последующих перебежчиков к большевикам, евреи Учредительного собрания в отношении к только что возникшему режиму Ленина-Троцкого раскололись пополам.
При обилии ассимилированных евреев на верхних этажах, ранний большевистский режим не воспринимал себя в качестве реализатора некоей «еврейской» повестки. А рядовой еврей-обыватель не был большевистским лоялистом.
Все изменила Гражданская война.
Путь к фанатизму
Принять большевиков как безоговорочно «своих» евреев убедили не только повальные погромы в бывшей «черте оседлости», но и радикальная антиеврейская позиция всех организованных сил, которые воевали против советского режима.
В армии Александра Колчака зачитывались «Протоколами сионских мудрецов», которые специально издали несколькими тиражами. Деникинская пропагандистская служба (ОСВАГ) печатала плакаты, на которых аллегорическую Россию в кокошнике умерщвляла на окровавленном алтаре толпа подлинных и придуманных евреев-большевиков.
Мы должны были работать без социалистов и евреев. Люди, знающие расовый и партийный состав нашей умеющей говорить, писать и по-настоящему агитировать интеллигенции, поймут, что это означало на практике… При повально антисемитском отношении массы, особенно военной, еврей в роли агитатора-пропагандиста был просто невозможен, —
вспоминал потом начальник ОСВАГа К. Н. Соколов.
Напротив, в большевистском аппарате «еврей в роли агитатора-пропагандиста», а также чиновника любого профиля был вполне возможен, а иногда и желателен, поскольку ему приходилось быть верным до конца. Евреи-активисты небольшевистских левых партий массами переходили в РКП(б); среди евреев-обывателей советский лоялизм, часто горячий и фанатический, за несколько лет стал общим тоном.
Языком режима был русский, и приобщение к нему подразумевало русификацию. Русифицированный еврей в качестве чиновника, агитатора или солдата советской империи стал одним из лиц режима. Но сам режим не осмыслял и не мог осмыслять себя как «еврейский».
Большевики, будь они евреями или нет, видели в себе наднациональную силу, стоящую выше любых племенных предпочтений. Они не только расправлялись с погромщиками, но и душили любой антибольшевистский активизм, в том числе сионистский. Утверждения тогдашних юдофобов, будто большевистские евреи-правители сплочены по племенному признаку, не подтвердились.
Первая из диаспор
Большевистское Политбюро не было инструментом евреев даже в тот короткий отрезок времени, когда наполовину состояло из евреев. В годы, когда решалось, кто станет правителем после Ленина, с 1920-го по 1924-й, его члены-евреи — Троцкий, с одной стороны, а с другой — Зиновьев и Каменев, — были ожесточенными противниками.
Единственным случаем верхушечной коалиции с еврейским преобладанием стал краткосрочный союз всех троих в 1926-1927-м (так называемая Объединенная оппозиция). Но это был альянс опальных вельмож, изначально не имевший шансов взять власть. И полный состав этой оппозиции не был национально однородным: среди подписантов ее главного документа, «Заявления 83-х» (1927), евреи составляли около четверти.
За первые десятилетия советской власти (1917-1941), пока евреям не закрыли дорогу в номенклатуру, членами или кандидатами Политбюро успел побывать 41 человек. Евреев из них было шестеро (15%). Еще шестеро представляли другие «диаспорные национальности» (три латыша, два поляка и молдаванин).
Таким образом, почти треть высшей номенклатурной знати в эти годы составляли люди из диаспор, выходцы из народов, этнические центры которых находились вне тогдашних границ советской империи. «Засилье» было налицо, но евреи были только его частью, пусть и первой по численности.
Со временем Сталин начал видеть в этом проблему для режима, и в конце 1930-х ее «решил». Но до этого евреи Советского Союза вместе с другими его народами подверглись серии невиданных экспериментов.
Двуликий Рабинович
В 1920-е новая экономическая политика создала уникальную ситуацию «двойного засилья»: евреи выглядели задающими тон одновременно и в машине власти, и в презираемой этой властью сфере частного бизнеса. Почти десять лет еврей считался как типичным нэпманом, так и типичным начальником.
Вот анекдот, который имел хождение и среди евреев:
«Девять евреев и один гой – это что?» – «Исполком». – «А девяносто девять евреев и один гой?» – «Совет». «А девятьсот девяносто девять евреев и один гой?» – «Интернационал».
Преобладание евреев среди «временно допущенных» большевиками частных торговцев и мелких производителей было, по народным понятиям, таким же повальным. Несмотря на очевидную общественную полезность, их третировали и власти, и массы.
«Частный предприниматель периода НЭПа как фольклорный персонаж перенял поведенческие черты, характеризующие в дореволюционном анекдоте евреев. Даже если национальная принадлежность нэпмана в анекдоте не проговаривалась, он имел или еврейское имя, или особенности поведения, характерные для анекдотических евреев».
(М. Мельниченко. Советский анекдот: указатель сюжетов. М. 2023).
Вот пример из самых беззлобных:
Рабиновича приняли на службу в государственный трест. Трест ничего не имеет против Рабиновича, Рабинович ничего не имеет против треста… Проходит год. Трест по-прежнему ничего не имеет против Рабиновича, а Рабинович имеет против треста собственный магазин.
Та часть евреев, которая стала нэпманами, а тем самым и «лишенцами» (т. е. пораженными в правах), дискриминировалась властями по многим линиям и, в частности, отсекалась от профессионального образования и государственной службы. Особенно четко это выражалось в местах традиционного расселения и традиционных занятий евреев. В 1926-м доля евреев среди всех «лишенцев» Украины поднялась до 45%.
Когда в конце 1920-х — начале 1930-х, параллельно с коллективизацией крестьян, грабили и сажали вчерашних нэпманов и всех, связанных с разгромленной частной экономикой, евреи оказались самой многочисленной после раскулаченных категорией пострадавших.
Великий синтез
Перипетии, сопровождавшие сначала НЭП, а потом его ликвидацию, еще больше ускорили освоение евреями новых для них занятий и их переселение в большие города, особенно в столицы. В 1926-м за пределами бывшей черты оседлости жили уже 24% советских евреев (в том числе в РСФСР — 570 тыс.), а в 1939-м – 40% (в РСФСР — 960 тыс., втрое больше, чем перед революцией).
Ассимиляция шла стремительно. В первую очередь, это была ассимиляция в русской культуре. Русский язык в качестве родного в 1926-м указала четверть опрошенных советских евреев, а в 1939-м — 55% (в том числе в России — 73%). К концу 1930-х около трети заключаемых евреями браков в РСФСР были смешанными.
В середине 1930-х евреи были явно «перепредставлены» среди советских студентов (13–15% от общего числа) и составляли 18% советских ученых и 16% врачей. С 1920-го по 1939-й число еврейских жителей Москвы выросло с 28 тыс. (меньше 2% населения) до 250 тыс. (6,1%). В 1930-х Москва стала городом с самым большим еврейским населением в советской империи. В простонародном восприятии это отобразилось так:
Вагон. Старого еврея спрашивают: «Зачем едешь в Москву?» — «Да вот, мои силы слабеют…» — «Так что же ты будешь там делать?» — «Хочу умереть среди своего народа».
Но переселение — между двумя мировыми войнами — полумиллиона евреев в Москву и Ленинград не было даже близко похоже на оккупацию. В массе тех, кто в те годы переехал в оба мегаполиса, евреи составили только десятую долю.
За два десятилетия в двух советских столицах произошло другое. В первую очередь именно там состоялся уникальный синтез обычаев и впервые сложилась по-настоящему многочисленная русско-еврейская, по большей части интеллигентская, среда. Именно ей предстояло стать лицом советского, а потом и российского еврейства.
Пиррова победа идиша
Ранний советский режим не ставил целью ускорить русификацию подданных-евреев. Но в реальности подгонял ее сужением коридора всех прочих возможностей: разгромом сионистского движения, сворачиванием выезда в США и в тогдашнюю подмандатную Палестину, воинственным антиклерикализмом и почти полным упразднением преподавания и публикаций на иврите. В 1926-1929-м годах все эти альтернативы закрылись.
Инициаторами превращения ивритоязычия в политическую проблему и зачинателями первых советских гонений против него были вовсе не большевики великорусского происхождения, а этнические профессионалы из так называемых евсекций (еврейских секций ВКП(б), а также компартий Украины и Белоруссии) – национальных партийных подразделений. В большой доле евсекции были укомплектованы бывшими членами Бунда и других левых еврейских групп. Их активисты были менее русифицированы, чем основной костяк евреев-номенклатурщиков, общались на идише и ненавидели иврит, воспринимавшийся ими как язык сионистов, клерикалов и буржуа.
Разрыв с ивритом сделал идиш единственным языком советских экспериментов с еврейской государственностью и стал одной из причин их предстоящего провала.
С особой энергией в 1920-е, а частично и в 1930-е годы советский режим пытался разрешить противоречие между собственной имперскостью и тягой к самоутверждению подчиненных ему народов, учреждая для них муляжи этнических государственных структур и продвигая в этих структурах так называемую коренизацию.
«Коренизация» осуществлялась на всех этажах власти — на уровнях «национальных» республик, «национальных» районов и сельсоветов и даже «национальных» отделений милиции. Она претендовала на то, чтобы вобрать – и некоторое время действительно вбирала в себя – не только «титульные», но и «диаспорные национальности», включая евреев.
Эта система, которую Терри Мартин назвал The Affirmative Action Empire («Империя позитивной дискриминации»), продержалась недолго. Но она оставила после себя в СССР два наследства.
Во-первых, культ регистрируемой этничности, который вскоре с огромной силой ударил по «диаспорным национальностям».
Во-вторых, культ административных образований, которые специально отводились «титульным» национальностям и давали защиту и привилегии их носителям.
Подарок с последующей расправой
«Еврейские» (т.е. идишеязычные) отделения милиции в местах тогдашней концентрации еврейских жителей просуществовали недолго. К тому времени, когда энергия советской «позитивной дискриминации» иссякла, стало ясно, что этничность в СССР дает ее носителю выигрышный статус только в таком административном образовании, где эта этничность объявлена «титульной». Значит, если советские евреи осмысляли себя в качестве отдельного народа СССР, то для нормальной по советским меркам национальной жизни им необходима была советская государственность.
Другие «диаспорные» племена, например, советские латыши или советские поляки, чьи этнические центры находились тогда за пределами советской империи, не могли и мечтать, чтобы в СССР им даровали государственность выше какого-нибудь эфемерного «национального» района. В сторону евреев режим сделал более широкий жест: пожаловал им Еврейскую автономную область на Дальнем Востоке.
Еврейская автономия стартовала в 1928-м и была официально провозглашена в 1934-м, после того как организация двух еврейских районов в Крыму повлекла слишком много конфликтов – а в 1939-м евреи составляли 6% населения полуострова. Энтузиасты воображали, что на Дальнем Востоке дело со временем дойдет и до союзной республики евреев.
ЕАО была запоздалым, подчеркнуто антисионистским и безальтернативно идишеязычным проектом. Для краха хватило бы любой из этих трех причин.
Те, кто перешли на русский язык, а это была уже большая часть еврейской молодежи, не знали, что им делать там, где начальство так увлечено идишем. А те из молодых евреев, кто не стремился русифицироваться, считали выхолощенную казенную идиш-культуру странной и бесперспективной. И конечно, любые носители профессиональных навыков не видели на новом месте рабочих мест для себя.
Все это означало, что приток переселенцев в ЕАО не мог быть большим и быстрым. К концу 1930-х в ЕАО жили всего 18 тыс. евреев (16% ее населения; 0,6% евреев СССР).
Будь у ЕАО запас времени, она смогла бы понемногу набрать вес. Времени не дали. Чистки конца 1930-х смели партийно-административный аппарат ЕАО, как и подобные аппараты по всей империи. Руководящие кадры еврейской автономии были всецело завязаны на этот проект. Их истребление лишило его почти всех энтузиастов и означало фактическое свертывание.
Со стандартной рецептурой
На этой фазе советский режим еще не выказывал какой-то специальной юдофобии. В подходе к еврейской идентичности он был таким же, как и в действиях с другими подвластными народами.
Сравним с самым крупным примером — Украиной. Кампания «коренизации» вышла там на пик в 1925–1926-м годах. Но уже в 1927-м прошла первая идеологическая чистка, направленная против украиноязычной интеллигенции и национал-большевиков («борьба с шумскизмом»). «Коренизация», однако, продолжалась, пусть и в сужающемся коридоре возможностей. Продвигались этнические кадры, более или менее охранялась сфера использования украинского языка.
Потом репрессивные кампании пошли по восходящей — «Кубанское дело» (1932), «Дело Скрипника» (1933) и, наконец, тотальный разгром местной номенклатуры в 1937-1938-х годах. Однако «коренизация» к этому времени зашла уже настолько далеко, что украинскость руководящего слоя УССР и его способность к этническому сплочению стала необратимой и пережила чистки.
Но применительно к советским евреям та же рецептура принесла совсем другие результаты. Евреи не построили, да и не могли построить жизнеспособную автономию за тот короткий отрезок времени и на тех условиях, когда и на которых режим соглашался ее предоставить. А сфера применения идиша, который был утвержден тоталитарным режимом в качестве единственного дозволенного еврейского языка, быстро сужалась по естественным причинам.
Власти по-своему старались ввести в берега антиеврейские чувства широкой публики. Например, в 1927-28 гг. в Москве было заведено 34 дела «об антисемитизме». Приговоры не были суровыми: штрафы, принудительные работы и краткосрочное заключение. Но рядовые люди видели, что режим осуждает юдофобию. Это подкреплялось и публикацией в 1926-1934 гг. нескольких десятков посвященных теме книг и брошюр.
До этого времени советская власть все еще воспринималась как благожелательная к евреям.
Но не далее.