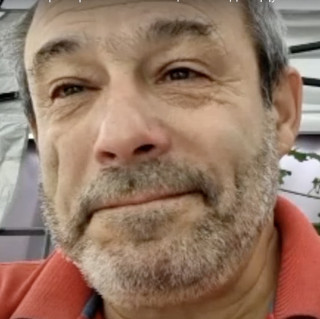И, возможно, кремлевские коллеги были о ней предупреждены. И, более того, не исключено, что она и составляла ось интриги.
Теория катастроф
Принято считать, что отношения Баку и Москвы формально начали портиться после крушения азербайджанского самолета, летевшего в Грозный, и эту нить российско-азербайджанского сюжета принято считать главной в отказе президента Ильхама Алиева от участия в параде. Однако сюжет шире, как это было и с самой катастрофой, которая стала не столько причиной раздора, сколько возможностью для Баку к нему приступить.
Слишком сильно Баку был вынужден сблизиться с Москвой в последние годы, нарушив свою главную внешнеполитическую заповедь — равноудаленность от России и Запада. А кроме того, в затягивании этой тесной дружбы уже и не было особой необходимости, поскольку все, что можно было из нее извлечь, Азербайджан в ходе своих успехов последних лет уже извлек.
В ходе войны в Украине Азербайджан собрал такой набор козырей, что он мог позволить себе сыграть и на значительное повышение, в том числе и в отношениях с Москвой. Одним из первых освоив бонусы лукавого нейтралитета, Азербайджан сделал заявку если не на лидерство, то на особую значимость в регионе, в котором Южный Кавказ постепенно становится лишь одной из его провинций. Скажем, в то время, на которое планировалась поездка Алиева в Москву, в Баку собирался израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Отсутствие лидера Азербайджана должно было компенсироваться присутствием Эрдогана, которому было что обсудить с израильским коллегой, и местом этих обсуждений должен был стать именно Баку.
Отмену визита Нетаньяху, кстати, некоторые аналитики связывали с совместным пожеланием Трампа и иранского президента Пезешкияна, тоже побывавшего за неделю до этого в Баку. Вашингтону и Тегерану, шаг за шагом выстраивающим контуры (не)возможной сделки, совершенно не требуется сегодня столь вызывающий фактор, как азербайджано-израильская дружба вообще и переговоры Израиля и Турции в частности. И даже если эта версия не подтвердится, готовность Азербайджана использовать свое особое положение в исполненных противоречий многофигурных композициях вроде турецко-израильских и очевидна, и востребована.
И это лишь одна из интриг, вовлеченность в которую Азербайджан умело и не без оснований рекламирует, как для собственного потребителя победных рапортов, так на информационный экспорт, и тоже не без успеха. И в такой постановке вопроса московский парад становится, конечно, важным, но уже не основополагающим звеном.
Непарадное примирение
Довольно скорое примирение Баку и Москвы было прогнозируемым с самого начала — слишком много дел, которые не терпят отлагательства, особенно деликатных, таких как поставки газа в Европу, или другие вариации на тему санкций. Есть и политические вопросы, в которых Москве все больше приходится считаться с Баку — в частности, все тот же Ближний Восток, не говоря уж о традиционных южнокавказских темах.
Участие Алиева в московских торжествах должно было стать не просто актом окончательного примирения — само мартовское обещание приехать уже было отчасти таковым, а заключительным аккордом в его непростой и многоходовой процедуре. И Баку не был бы Баку, если бы не обставил свое обещание определенными условиями, каковыми в данном случае могли быть долгожданное и публичное признание Кремля со всеми приличествующими случаю словами об ответственности.
Словом, это уже был компромисс. Москва в любом случае получала предварительное согласие, подкрепленное участием азербайджанской роты спецназа для прохождения в едином парадном строю. Она, конечною хотела большего, Алиев на фоне всех остальных гостей мог стать вторым после товарища Си гостем, рукопожатие с которым можно было предъявить миру без привычного риска вызвать снисходительную улыбку. Да и сам процесс уговаривания Алиева нес в себе элементы былой дружбы народов: патриарх рядом с Алиевым в этом контексте — уже знак встречи на высшем уровне.
А для Алиева же любой компромисс и вовсе был лучше поездки в Москву. С необходимостью гвардейской ленточки он бы, наверное, справился, но само участие в этом действе явно противоречило бы попыткам Баку выстроить заново отношения с Западом и стало бы новым знаком искажения все того же баланса равноудаленности, который только-только удалось выправить. К тому же Москва так и не произнесла слова, которые от нее ждали, что дало Баку возможность объяснить свой отказ без обидных неожиданностей. И заодно дать понять urbi et orbi, что у него есть дела поважнее и поглобальнее, чем московский парад победы и тот бомонд, который на него собрался.
Но к этому Алиев не преминул добавить еще один подтекст, не менее значимый для него. Параду в Москве он предпочел торжества в Шуше. Для карабахцев 9 мая был еще и собственным днем победы, не менее значимым — в этот день в 1992 году армянами была занята Шуша, что стало переломным моментом всей первой карабахской войны. Провести этот день в Шуше, перешедшей под контроль Азербайджана, было для Алиева уж точно важнее, чем стоять на трибуне Мавзолея, даже между Путиным и Си.
Пашинян против всех
Если бы речь шла не о Николе Пашиняне, это могло выглядеть троллингом. Но армянский премьер в этот день стоически переносил еще более жестокие испытания, и отсутствие Алиева сделало зрелище азербайджанского спецназа, чеканящего шаг по Красной площади, особо изощренным. Да еще и в соседстве с Александром Лукашенко…
Отношение к украинской войне с самого начала для многих в Армении было производным от войны карабахской. Пока был жив миф о неизбывном братстве с Россией и ее исторической ответственности за судьбу армян, Ереван придерживался официального нейтралитета. В обывательских массах он, как это часто бывает с нейтралитетом, стал формой потаенной (а иногда и не очень потаенной) симпатии к России и пожеланию ей успеха. Настолько скорейшего, насколько он позволил бы ей оперативно переключиться на Кавказ.
По мере постижения того факта, что братской ответственности Москва предпочитает прагматические расчеты, в которых ей гораздо ближе позиции Азербайджана, в Армении актуализировалась тема предательства, которую Никол Пашинян и конвертировал в политический ресурс. Охватившее страну возмущение позволило ему и несколько отвлечь ее от темы его собственной роли в катастрофе, и переложить в декларацию о европейском рывке. Что было, в свою очередь, необходимо, чтобы крайне невыгодную для себя внутриполитическую полемику подменить дискуссией о месте Армении в мире. Именно на эту пору приходятся главные антикремлевские порывы Еревана, сколь яркие, столь и символические. Бунт в ОДКБ, который и без Еревана уже перестал всерьез заботить Москву, был, конечно, вызывающим, но основ не подрывающим, а там, где эти основы были для Москвы по-настоящему чувствительными скажем, ЕАЭС, Пашинян был предельно деликатен и осторожен.
Но ресурс имитации глобального перепозиционирования был тем более быстротечен, чем скорее угасала обида на Россию. К тому же успехи на европейском направлении тоже были рассчитаны на короткую дистанцию. Подмена внутриполитической повестки внешнеполитическим выбором, поначалу работавшая на Пашиняна, стала давать сбои. На выборах в Гюмри партия власти не смогла одолеть оппонентов, которые, будто оправдывая свою номинальную принадлежность к компартии, призывали к присоединению Армении с российско-белорусскому союзу. И хоть актуальность этой идеи низка, как само коммунистическое самосознание ее инициаторов, в деле борьбы оппозиции с Пашиняном подобные тезисы уже как минимум не мешают.
Словом, если для собравшего все лучшее, что было в колоде, Алиева интрига с московским парадом имела прежде всего внешнеполитический смысл, то Пашиняну, у которого на руках только то, что обычно сбрасывают за ненадобностью, осталась только внутриполитическая импровизация. Которую пришлось снова исполнять во внешнеполитическом жанре. Свой визит в Москву Пашинян анонсировал примерно одновременно с Алиевым, что придавало ему хоть какой-то, пусть и глубоко скрытый смысл. Но в итоге обманутыми себя почувствовали и сторонники Пашиняна, и его противники. Первые, даже понимая необходимость смены тактики, участие в параде в компании патентованных тиранов на фоне украинской войны сочли, мягко говоря, перехлестом. Противники, на чьем прокремлевском поле решил сыграть Пашинян, обвинили его в лицемерии и кощунстве. Те, же, кто не верил Пашиняну, не примыкая ни к одной из сторон, просто грустно улыбнулись как люди, которым опять не за кого голосовать.
Легкость, с которой Пашинян меняет повестку и ловит ветер всеми парусами, сама по себе давно стала политическим фактором. Пашинян на выезде сыграл явно неудачно, но это не помешает ему завтра точно так же сымпровизировать на европейском направлении. Результат едва ли окажется более впечатляющим, что еще раз покажет: российский вопрос, Европа и даже отношение к войне в Украине еще долго будут оставаться проекцией куда более близких к Армении линий фронтов.
А интрига с парадом удивительным образом совпала с затишьем в этом главном урегулировании. Оно продолжается, хоть на просьбы поделиться подробностями обе стороны отвечают вызывающе односложно и формально. Но то, что сама эта тема ушла, хотя бы на время, на второй план — новость скорее хорошая. Как это вообще бывает с отсутствием новостей в скверных историях.