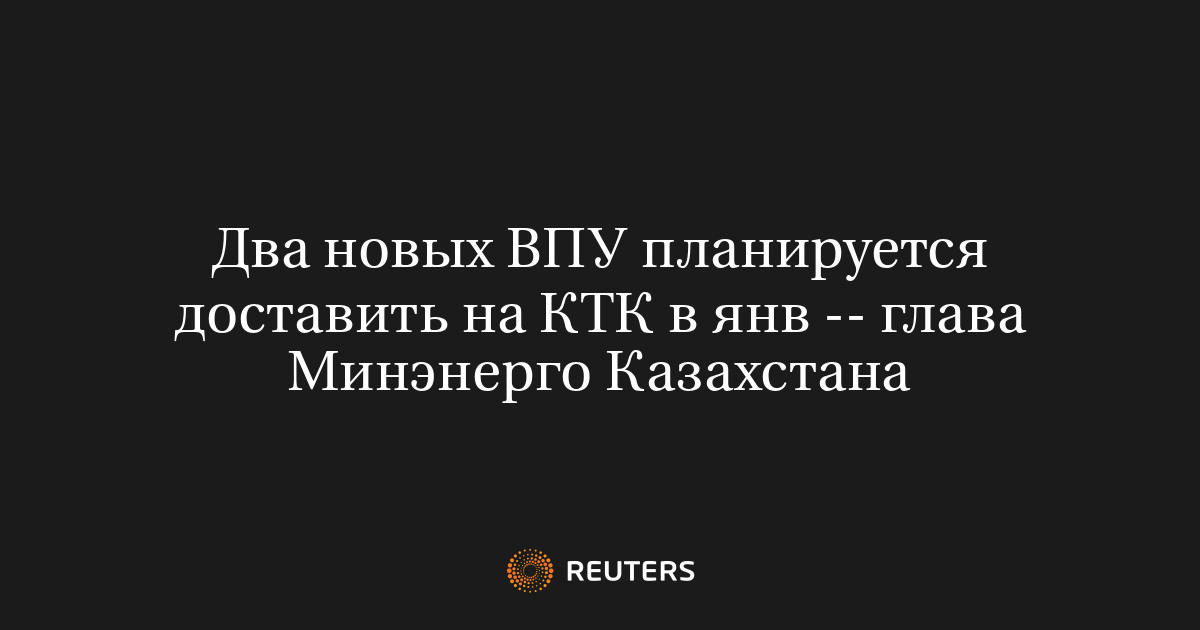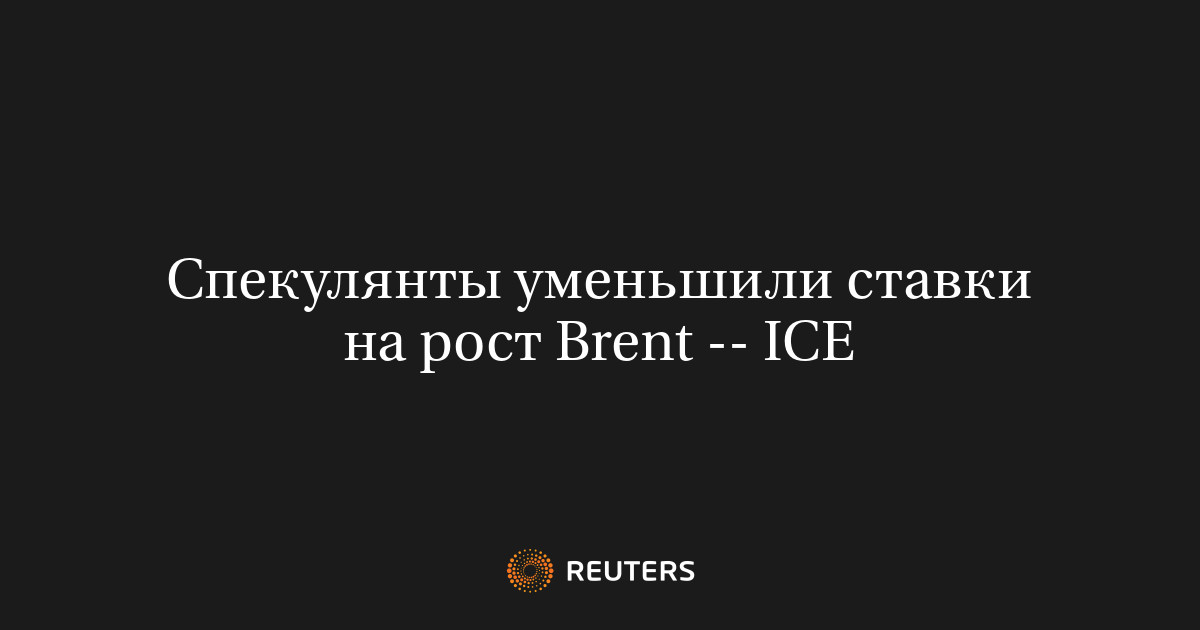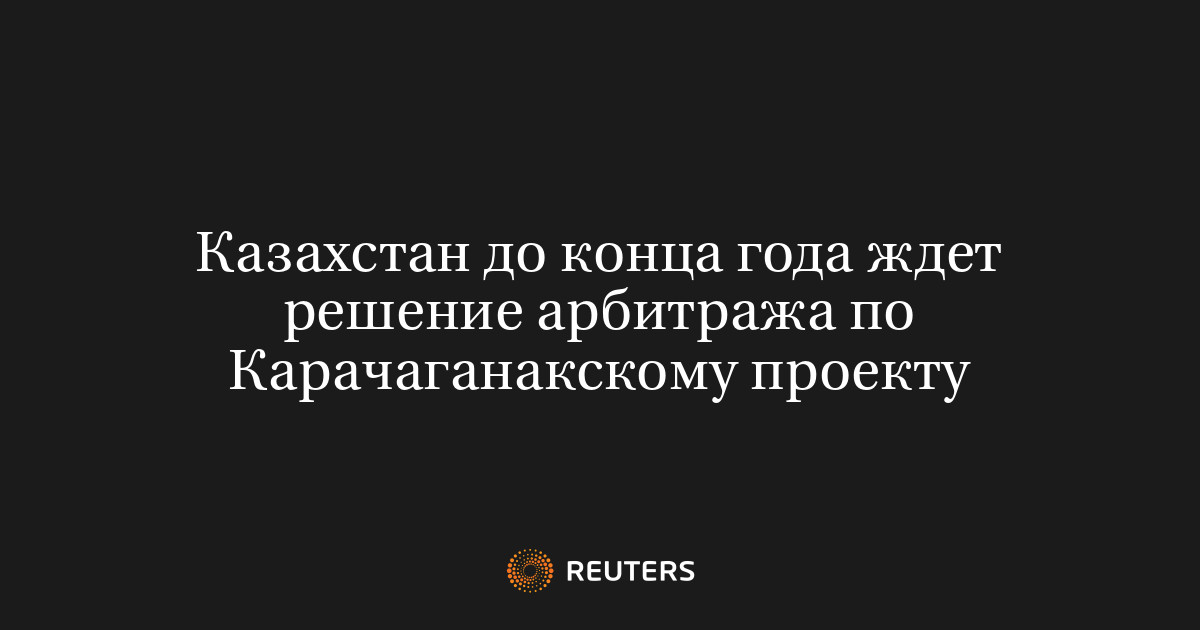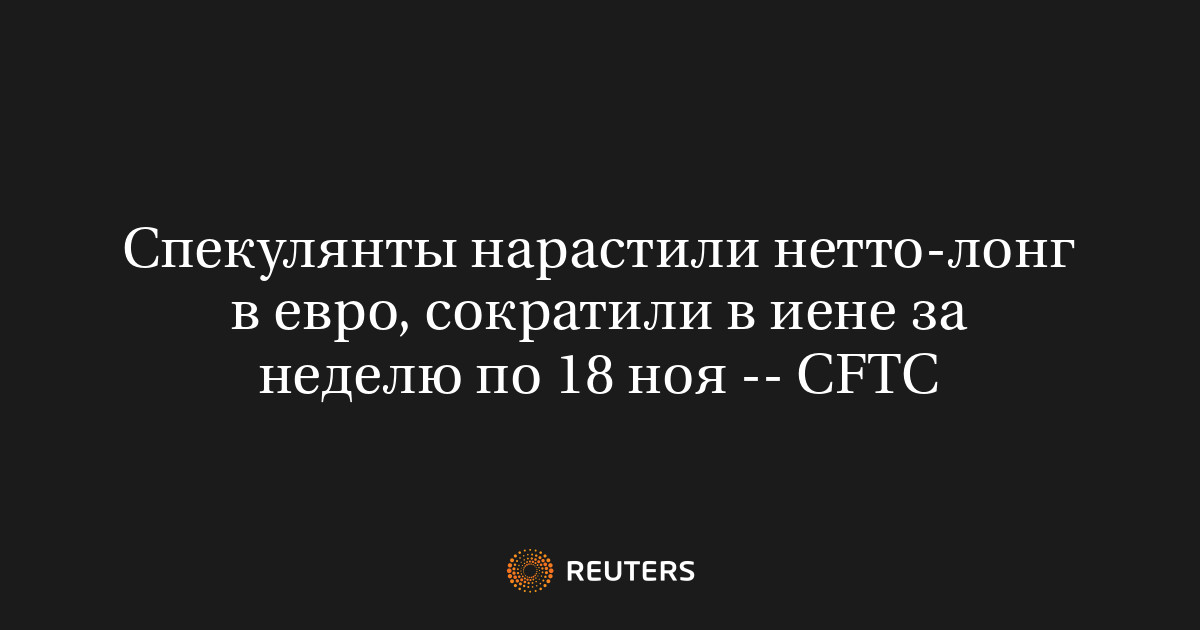Возможности для быстрого роста экономики за счет военных расходов подходят к концу, и власти ищут, как избежать надвигающегося застоя. Последние два года ВВП рос на 4,1% и 4,3%, но замедление неизбежно, Владимир Путин поручил обеспечить «мягкую посадку», напомнил его помощник Максим Орешкин: «Она все равно случится», но это проблема краткосрочная.
Власти беспокоит другая проблема, более фундаментальная и долгосрочная: как потом снова ускориться. Рывок 2023-2024 гг. произошел во многом за счет активизации «спящего, незадействованного» потенциала экономики, прежде всего кадрового и производственного, признал Орешкин, но эти ресурсы задействованы по полной и развития не обеспечат: «Эта модель роста себя исчерпала».
Столь низкой безработицы, как в России (2,5% в 2024 г., 2,3% в марте-апреле – ТМТ), нет ни в одной крупной стране, загрузка мощностей также высока, объяснил Орешкин. Экономика перегрелась, раз за разом повторяет Центробанк, спрос превышает возможности предложения, что и привело к высокой инфляции. «Физические ресурсы в экономике практически полностью задействованы», – говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. К тому же возможности государства наращивать военные расходы подошли к пределу, уверен экономист Владислав Иноземцев: страна сможет в течение длительного времени позволить себе нынешние расходы или чуть выше, «но если Путин захочет потратить 20 трлн руб. в следующем году, то все пойдет наперекосяк».
Поэтому замедление неизбежно. На этот и следующие два года даже оптимисты из Минэкономразвития ожидают рост 2,5-2,8%, другие намного меньше: Центробанк прогнозирует 0,5-2,5, опрошенные им аналитики – 1,5-1,9%, МВФ – 1,5% в этом году и 0,3-0,9% в следующем. Прогноз близкого к властям аналитического центра ЦМАКП – 1,2-2,4% в 2025-2028 гг.
Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень, призвал Орешкин. Об этом регулярно говорит один из руководителей ЦМАКП Дмитрий Белоусов. «Мы втягиваемся в режим развития с темпом роста порядка 2-2,5% в год», – предупреждал он, также отмечая, что конкурентные преимущества, на которых до сих пор основывался экономический рост, исчерпываются. «Диапазон возможных стратегий для России сужается, по большому счету, до одной – инвестиционно- и технологически ориентированной. Ни сырьевой ренты, ни дешевого труда, как источников роста, в нашей экономике больше не будет», – писали эксперты ЦМАКП.
Технологический прорыв, по оценке Белоусова, добавил бы 0,6-1,1 процентного пункта роста ВВП в год. Однако сделать такой «шаг вверх» малореально. Санкции предельно ограничили возможности для импорта передовых технологий. Кроме того, как отмечал Белоусов, в России «сложилась нежизнеспособная структура финансирования научно-технологической сферы»: основную роль в финансировании исследований и разработок играет государство, а не бизнес. Но государство в одиночку не справится, а бизнес в условиях полной неопределенности и высоких процентных ставок не спешит инвестировать. «Дальнейший "фронтальный" рост финансирования науки и технологий нереален из-за бюджетных ограничений», – констатирует Белоусов.
Проблемы с деньгами в науке уже начались, пишет Алексей Кузнецов из ВШЭ. В I квартале самое большое падение прибылей (52%) произошло в научной и профессиональной деятельности, отмечает он и объясняет: «Научная деятельность, во многом финансируемая за счет бюджета, столкнулась в 2025 г. с сокращением бюджетных расходов; также затруднения для научной деятельности создаются изоляцией от иностранных научных организаций и сокращением международного сотрудничества».