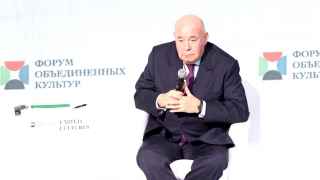Швыдкой оговаривается, что предварительная цензура предпочтительнее нынешней карательной (то есть лучше не допустить до печати крамолу, чем проморгать и потом сажать автора за «дискредитацию» и «фейки»), но тут же углубляется в воспоминания о том, с какими чудесными цензорами ему довелось работать в журнале «Театр» с 1973 по 1990 год («отличались крайней доброжелательностью», «были в высшей степени образованны и сведущи», «прекрасно ориентировались»). «Да, возрождение института цензуры, — пишет Швыдкой в „Российской газете“, — недешевое удовольствие, требующее не сотен, но тысяч просвещенных слуг государства, но, пожалуй, только оно может сохранить здоровую обстановку в творческой среде».
«О литературных выродках»
Я хоть и младше Швыдкого на десять лет, но в указанные годы уже публиковался: в 1974 году дебютировал в «Комсомольской правде», а в 1990 году возглавил журнал «Столица». Могу засвидетельствовать: «обстановка в творческой среде», в частности в прессе, была далека от здоровой. Паршивая была обстановка. Один только список запрещенных кинофильмов и театральных постановок занял бы все пространство этой заметки. И именно в 1973 году прошла компания против «Архипелага ГУЛаг» Александра Солженицына, положившая начало особенно свирепому периоду в истории отечественной цензуры. Не только произведения авторов-«антисоветчиков» запрещались, изымались даже из библиотечных каталогов, но этих авторов вообще нельзя было упоминать.
Нет сомнений, что как только призыв Швыдкого будет услышан и предварительная цензура вернется, будет наложен запрет на любое упоминание автора-иноагента. Как недавно заметил бывший президент Дмитрий Медведев по поводу запрета Б. Акунина и Дмитрия Быкова: «Пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине и думают о том, кто будет ухаживать за их могилами. Будет куда плюнуть».
Цензуру большевики ввели сразу, как пришли к власти. Уже 27 октября (9 ноября) 1917 года Совнарком издал Декрет о печати, на основании которого большевики за несколько месяцев закрыли 470 газет. В Конституции РСФСР 1918 года свобода слова гарантировалась только «рабочим и беднейшему крестьянству», но не всему обществу. Большевики немедленно наплодили огромное количество всяких цензурных органов, отдельные люди давали разрешение на спектакли, отдельные — на кинофильмы, в одном месте разрешались книги, в другом — газеты. Наконец, в 1922 году все это хозяйство объединили под общим названием Главлит (главное управление по делам литературы и издательств народного комиссариата просвещения). Без особых изменений он просуществовал до 1 августа 1990 года, пока Горбачев не срубил сук, на котором сидел.
Тот день, 1 августа 1990 года, я начал с посещения директора издательства «Московская правда» товарища Переля и сообщил ему, что для печати первого номера журнала «Столица» виза Главлита не требуется. Удивительно, но товарищ Перель был не в курсе и при мне стал звонить и в горком, и в ЦК партии, и везде ему подтвердили, что да, цензуры никакой нет, Главлит распущен по домам и пусть товарищ Перель делает, что хочет.
Товарищ Перель сделал то, что захотел: тираж первого номера журнала был отпечатан и поступил в продажу. За что, конечно же, получил по мозгам, и в поисках типографии для второго номера нам пришлось бегать по всей стране.
Советская цензура не щадила никого, неприкасаемых не было. Когда в 1939 году неожиданно был подписан пакт Молотова — Риббентропа, под нож пошли многомиллионные тиражи. Под раздачу попал даже верноподданный Василий Лебедев-Кумач, сборник которого «Москва майская» был «списан в макулатуру книготорговой сети в связи с наличием в ней в песне „Нас не трогай“ нескольких абзацев антигерманского характера». А в 1960 году, например, Главлит поднял руку на Сергея Михалкова: сборник Михалкова «Война на войне» с рисунками Бор. Ефимова был изъят, потому что Михалков «подверг необоснованным нападкам руководителя Югославии Иосипа Броз Тито». По той же причине была запрещена написанная Михалковым в соавторстве со Львом Кассилем книга публицистики «Европа — слева! По маякам 15 стран».
Сейчас эти (и многие подобные) эпизоды из истории отечественной цензуры кажутся курьезом. Не думаю, что Сергей Михалков сильно переживал. Ну подумаешь, запретили старое, но зато ведь можно написать много нового, в соответствии с политикой партии и правительства.
Напомню только, что многие выдающиеся поэты и прозаики умерли, так и не дождавшись своих книг. Многие, попавшие в черные списки, уехали в эмиграцию и стали издаваться там. Советской аудитории их лишили. Однажды попав под цензурный каток, автор становился неблагонадежным на долгие годы.
«Немного патриотизма»
Расскажу одну давнюю историю, окончание которой я узнал только сегодня, в день, когда я пишу эти строки.
В 1984 году ЦК КПСС под мудрым руководством К. У. Черненко принял постановление о работе с творческой молодежью. А я как раз был такой творческой молодежью, работая в «Литгазете», дружил с творческой молодежью и пытался публиковать заметки о творческой молодежи. Считалось, что если имя начинающего поэта упомянуто пару раз в печати, значит, ему проще самому будет печататься. Ну, раз цензура в одном месте пропустила, значит, всё более-менее у человека в порядке. Вот я вовсю и упоминал.
Короче, вышло постановление, и у меня раздается звонок. Из газеты «Правда»! Куда меня любезно приглашают обсудить сотрудничество. Я отправляюсь в «Правду» на улицу Правды, и там в новом прекрасном здании, среди мрамора и хрусталя, нахожу сотрудников отдела культуры Андрея Плахова и Нину Агишеву. Они сидели в одном кабинете. И вот Плахов с Агишевой делают предложение: срочно написать статью о молодых поэтах. Я, разумеется, бегу домой и сочиняю огромный текст, начинающийся так (извините): «Тематика современной молодой поэзии широка и разнообразна, она охватывает разные стороны нашей действительности, связана с коммунистическими идеалами». И далее без зазрения совести я начинаю цитировать и нахваливать моих друзей из числа молодой московской богемы. Многие из которых, замечу, в дальнейшем стали довольно известными литераторами.
«Все хорошо, — сказали мне Плахов с Агишевой, — мы понимаем, что ты делаешь, мы не против, пусть, вот только давай добавим немного патриотизма, про Великую Победу, например».
И я вспомнил, что в каком-то молодежном сборнике мне попалось короткое стихотворение совершенно неизвестного мне юноши по имени Борис Маслов. Довольно необычное. Оно сразу впечаталось в память, с первого прочтения:
Под самое утро утихла гроза.
С намокшею шерстью на брюхе
у братской могилы пасется коза
одной сумасшедшей старухи.
К березе привязанная бечевой,
не может она подобраться к цветам.
Цветы доросли до «ПЕТРОВ, рядовой»,
им не дорасти до «ПЕТРОВ, капитан».
Они зацветают. На то и весна.
Им не дорасти, ведь разрыв двухметровый.
И душит веревка с темна до темна
козу сумасшедшей старухи Петровой.
Я вставил это стихотворение в статью. И его не пропустила цензура!
Знаете, в советское время художники-иллюстраторы специально пририсовывали к своим рисункам какую-то дичь, которая бросалась в глаза цензору, от них требовали ее убрать, они с удовольствием это делали, сохраняя гораздо более важные для себя детали, которые в противном случае вызвали бы нарекания. Стихотворение неизвестного Бориса Маслова неожиданно оказалось таким вот громоотводом для всей статьи. Принизил подвиг народа, по мнению Главлита. Зато все мои приятели остались на своих местах. И потом Виктор Коркия, Андрей Чернов, Олег Хлебников, Михаил Андреев, Александр Лаврин показывали в редакциях и издательствах: смотрите, про нас написала газета «Правда».
А вот у Бориса Маслова, с которым я так и не познакомился, дела, похоже, только ухудшились. Думаю, он автоматически попал в список запрещенных. Его перестали приглашать на «совещания молодых литераторов» (до этого приглашали), районная газета «Серп и молот» отказалась от его услуг. Издательство вернуло рукопись. Он бедствовал. Жил собиранием и сдачей бутылок. Сначала жил с матерью, потом она умерла, после чего он стал деградировать и спился. Ложился в больницу, чтобы, как он говорил, «подкормиться». В 2013 году покончил с собой. Друзья, как я сегодня выяснил, регулярно публиковали его стихи в «Живом журнале». Отличные стихи!
Я, конечно, в точности не знаю его взаимоотношений с Главлитом. Все-таки после августа 1990 года цензуры не стало, теоретически публикуй, что хочешь и где хочешь. Но ведь перед девяностыми были восьмидесятые. Может, тогда его и сломали? Не знаю и боюсь предполагать.
И это те самые восьмидесятые, когда, по мнению Михаила Швыдкого, благодаря благожелательной цензуре в творческой среде царила здоровая обстановка.