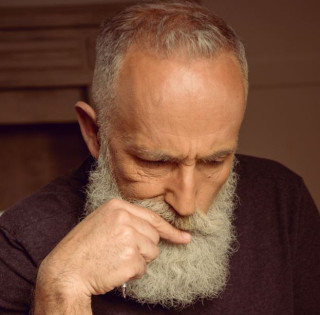Репрессии, заставляющие выбирать между гражданской совестью и хорошей работой, разочарование в обывателе и его равнодушии к преступлениям государства, подлость и садизм КГБ, имитация права, разговоры о возвращении сталинизма были характерно и для эпохи развитого социализма.
Но возможен ли схожий возврат сегодняшней российской экономической модели к временам застоя? И если да, то в какой мере? И какие существуют стимулы для такого шага?
Предприниматель значит жулик
Возможно, это прозвучит неожиданно, но определенные черты российского экономического механизма никогда по-настоящему не отличались от тех условий, которые сложились еще в брежневскую эпоху. Речь прежде всего идет об отношении российской правовой системы к классу хозяйственников и предпринимателей. По воспоминаниям тех же диссидентов, которым приходилось на воле или в заключении сталкиваться с историями людей, осужденных по обвинениям в «бесхозяйственности» и «расхитительстве», во времена застоя репрессии против управленцев были частыми и постоянными. Стоит признать, что наказания бывали вполне заслуженными, например, из-за участия управленцев в коррупционных схемах. Однако хозяйственников преследовали и за обычную предпринимательскую деятельность. Транспортировка содержащего фосфор шлака с территории завода и продажа его колхозам была выгодна как частнику, так и другим сторонам этой сделки, но легально ничем подобным заниматься было нельзя.
Оказывались в колонии и те управленцы, кто попадался в сети многочисленных и запутанных советских законодательных ограничений, нередко не дававших возможности действовать таким образом, чтобы не нарушить хотя бы одно из них. За решетку могли попасть и сторонники смягчения нормативного регулирования, например, проводившие на вверенных им предприятиях и колхозах вполне официальные эксперименты, в рамках которых работники получали доходы на основаниях, приближенных к рыночным. По итогам эксперимента КГБ приходило к заключению, что более высокие зарплаты были расхищением социалистической собственности.
Казалось бы, легализация предпринимательства должна была оставить многие из этих проблем в советском прошлом. Однако представители бизнеса в России постоянно сталкиваются с силовым прессингом и в итоге оказываются в заключении. Никуда не исчезли и запутанность регулирования или широкие возможности силовиков трактовать детали предпринимательской деятельности по своему усмотрению. В постсоветский период предприниматели в России оказались далеки от того, чтобы быть самостоятельным классом: их положение в российском социуме носит выраженный подчиненный характер. Власти могут в любой момент лишить их свободы, забрать активы, обложить дополнительной данью.
Однако властям было бы удобно институционализировать и идеологизировать такое положение предпринимателей. Все-таки от массы разрозненных уголовных дел, когда тот или иной бизнесмен садится в колонию и лишается собственности, идет устойчивый запах коррупции и рэкета, совершаемого государственными руками. Да, можно продолжать напоминать обществу про темную приватизацию 1990-х и представлять преследование бизнеса как справедливую борьбу с ее итогами, но эта версия с течением времени все меньше воспринимается всерьез.
Все дело в больших данных
Поэтому рано или поздно нужно будет найти какое-то иное обоснование столь широких возможностей государства в адрес делового сообщества. И здесь очень кстати пришлись бы идеи заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, дополненные взглядами министра обороны Андрея Белоусова. Которые в целом отлично сочетаются с текущими государственническими тенденциями.
Эти идеи и взгляды можно изложить следующим образом. Класс предпринимателей образует множество разрозненных фирм. Все эти фирмы плохо понимают, что происходит за пределами соответствующей отрасли, многие не видят дальше небольшого локального рынка. Кроме того, горизонт планирования у бизнеса часто короткий.
Бизнесмены управляют своими компаниями в условиях конкурентной борьбы, а не сотрудничества и координации. Ну как же от такой массы разрозненных, плохо информированных и постоянно враждующих друг с другом, в том числе и неправовыми методами, экономических агентов можно добиться оптимальных решений, способствующих росту общественного благосостояния? Они будут вечно недоинвестировать в исследования и разработки, недостаточно тратить на создание основных фондов, ошибаться с инвестиционным выбором, перепроизводить или недопроизводить, завышать цены и наживаться на потребителях.
Совсем другое дело – государство. Это единый и мощный экономический игрок, с длинными горизонтами планирования, действующий в интересах общества. Надо дать государству власть над экономикой, поставив предпринимателей под контроль и сопроводив их работу KPI.
В прошлый раз, т.е. в брежневскую эпоху, скудные данные и недостаточные вычислительные мощности делали это преимущество теоретическим. Теперь же эти ограничения в значительной мере если не сняты окончательно, то ослаблены. Данных становится все больше, средства их обработки – все мощнее.
Например, данные о потребителях есть у банков и платежных систем, которых можно обязать делиться ими с государством. В перспективе, законодательно ограничив использование наличных, прозрачность потребительских трат можно сделать абсолютной для властей. Компании также можно заставить направлять государству больше данных. И стимулировать фирмы к выполнению решений, которые подскажут алгоритмы, функционирующие в рамках модели цифрового госплана. В том числе и угрозой национализации. Не справился с достижением установленного наверху KPI – лишился компании.
Но это пока всего лишь возможная архитектура нового госплана, ее абстрактные контуры. Как видит цифровой госплан сама власть, не раз объяснял в своих интервью Максим Орешкин. По его словам, это совокупность цифровых платформ наподобие сервисов "Яндекса". Массивы данных централизованно поступают в определенные центры обработки, где ключевые решения вместо рынка принимают алгоритмы. В частности, алгоритмы на основании большИх данных лучше знают структуру сегодняшнего спроса и потому более точно оценивают перспективы стартапов и направляют инвестиции туда, где ими распорядятся максимально эффективно. Ценообразованием тоже должны заниматься они.
Таким образом, значительная часть экономической субъектности забирается у рынка и отдается совокупности цифровых платформ, контролируемых государством. К этой конструкции вполне могут быть добавлены цифровые и правовые механизмы, карающие за попытки обойти указания или за невыполнение установленных планов, если у цифрового госплана будет соответствующий функционал.
Насколько цифровой госплан функционален и реализуем?
Глядя на эпопею с распространением новоиспеченного российского мессенджера Мах, надо понимать, что это все-таки два разных вопроса.
Ввиду особенностей российской экономики цифровые платформы нового госплана должны серьезно фокусироваться на планировании импорта. Ведь экономика России крайне далека от уровня развития, соответствующего технологическому и индустриальному суверенитету. Одно дело российский рынок услуг такси, на котором в каждый момент времени задействовано множество автомобилей, водителей и пассажиров. Совсем другое, к примеру, рынок бытовой техники и электроники, на котором нет серьезных производителей с российской стороны. Платформам нужно будет взаимодействовать с импортерами, порой требуя от них увеличения внешних закупок. Но подобные решения противоречат тренду на суверенизацию и изоляцию, который реализуется как раз за счет различных ограничений на импорт.
Как в такой ситуации государственная цифровая платформа «настроит» производство? Отдаст распоряжение российским компаниям производить больше телевизоров надлежащего качества? Перенаправит в соответствующее производство инвестиции? Однако распоряжениями и инвестициями не решается проблема дефицита технологий, кадров, оборудования, блоков и частей, которых попросту может не быть на российском рынке. Вряд ли цифровой госплан будет функциональным в деле суверенизации выпуска и удовлетворения с его помощью внутреннего спроса. Проблемы формирования сложных секторов экономики цифровыми платформами не решаются.
Есть веские причины и для сомнений в том, что алгоритмы не только «видят» сегодняшний спрос, но и хорошо предсказывают спрос будущий. Говоря откровенно, на сегодняшний день такое попросту невозможно, иначе уже сейчас человечество могло бы принимать экономические решения в условиях полной определенности. Алгоритмы могут предложить только прогноз, поэтому их рекомендации неизбежно связаны с рисками. Но кто будет нести ответственность в том случае, если алгоритм сегодня даст рекомендацию построить новый микрорайон, а через пару лет, когда настанет время продавать построенные квартиры, спрос на жилье резко упадет? Если в рыночной экономике ответственность за переоценку перспективности рынка ложится на бизнес, то цифровой госплан видимо заставит расплачиваться за свои ошибки налогоплательщиков. И если сегодня десятки процентов бюджета идут на войну, то нельзя исключать, что при внедрении цифрового госплана они будут идти на покрытие издержек от ошибочных решений цифровых алгоритмов.
Сложно себе представить и то, что директивам госплана будут беспрекословно следовать компании, контролируемые приближенными к режиму олигархами. Их аппаратного веса вполне может хватить для того, чтобы карьера председателя Госплана завершилась в самые короткие сроки. Поэтому в адрес элитного сегмента экономики директивы госплана скорее всего будут работать вхолостую.
Итак, функциональность цифрового госплана с т.з. роста национальной экономики представляется сомнительной, его работа может обходиться дорого для налогоплательщиков, реализовывать он будет планы властей, которые наверняка во многом будут отличаться от задач увеличения общественного благосостояния. Однако это совсем не означает, что цифровой госплан, как и не отличающийся функциональностью и приватностью мессенджер MAX, не будет в конечном счете установлен в российской экономике. Он вполне может выполнять иную функцию, став инструментом институционализированного и идеологизированного контроля над бизнесом. Собственники в итоге могут оказаться в статусе квази-управленцев, которые будут отвечать за KPI, определенные властью. Механизм реприватизации заменит увольнение предпринимателя, если тот не справится с поставленной перед ним задачей. А невыполненных задач будет очень много, в том числе ввиду высокой неадекватности планов по импортозамещению.
Кроме того, данные, которыми будет располагать госплан, определенно получат и силовики. Которые уже при помощи собственных алгоритмов и соображений определят массив «неблагонадежных» и «неэффективных» компаний, против которых можно будет предпринять те или иные процессуальные действия.