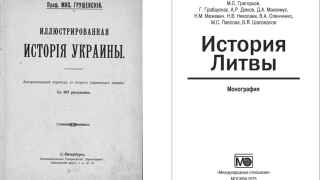Почти всем этим странам, а далеко не только России, жизненно необходима принципиально новая история.
Те же люди, те же истории
Новая московская «История Литвы», если убрать из нее вступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и последнюю главу «Современная Литва: ксенофобия и русофобия», — вполне обычный образец национальной истории, который был придуман для каждой советской республики в 1960-х годах и благополучно сохранился до наших дней.
Все эти «истории» Украинской, Казахской, Таджикской и каких угодно других ССР и АССР были до смешения одинаковыми. Вначале там рассказывалось об охотниках и собирателях, потом — о каких-нибудь древних государствах. Потом эти государства терзали внутренние и внешние богачи и прочие тунеядцы, а в 1917 году власть получил трудовой народ — и началась коллективизация, индустриализация и прочее бурное развитие промышленности, прерывающееся лишь на героическую главу «***ская ССР в годы Великой отечественной войны».
Когда СССР таки распался, на бывших кафедрах истории КПСС по всей стране, ставших кафедрами соответствующей отечественной истории, начали решительно размежевываться с унылым тоталитарным прошлым и писать новые «национальные истории». Правда, получилось, как том анекдоте — что ни делай, все равно выходит автомат Калашникова. Оно и понятно — таблички на дверях кафедр сменить можно, а вот содержимое голов обитателей этих кафедр так быстро не меняется.
Поэтому «История Белорусской СССР» (1961 год издания), где русский, украинский и белорусский народы, будучи едиными по происхождению, оказываются в извечном водовороте искусственных разделений и стремления к объединению, мало чем принципиально отличается от «Истории белорусского государства» (2018 год), написанной уже в современной Беларуси.
Но это, скажете вы, в диктаторской Беларуси. Что ж, с той же уверенностью я могу утверждать, что «История Украины», изданная в 2005 году в Киево-Могилянской академии, ничем принципиально не отличается от «Истории Украины», написанной в 2018 году за российские деньги и изданной в Москве. И обе эти книги — принципиально ничем не отличаются от «Истории Украинской ССР», изданной в 1951–1954 годах в Советском Союзе. В каждой из этих книг присутствует единая Киевская Русь, рассказывается драматическая история противостояния Речи Посполитой и Москвы, в жернова которой попадает Украина, описывается «рост национального самосознания» в XIX веке и обретение независимости в XX веке.
Словом, лекала остались прежними — в лучшем случае, изменился только поставщик тканей и фурнитуры для изготавливаемых исторических одежд.
Даже хуже, чем в СССР
Больше того — новые национальные истории в итоге получились даже хуже и вреднее советских. Ведь советская историографическая традиция была хотя бы наднациональной и устремленной в будущее (в данном случае неважно — в какое). Новые «истории» независимых постсоветских стран оказались устремленными в прошлое.
Политики и историки могли выбрать в качестве государственной идеологии принцип современных гражданских (не этнических!) наций. Они, в конце концов, могли творчески переработать советский трансграничный проект. Но они взяли за основу политические формы и идеологии, актуальные для середины XIX века — времени этнических государств, воспевающих «принцип крови» и создающих свою национальную историю ради самоутверждения новоявленных государств. Отсюда — все эти древние герои, бесконечные войны и череда побед ****ского народа.
Итак, пока в Европе стирались национальные границы и идентичности растворялись друг в друге, новые страны на постсоветском пространстве занимались ускоренным возведением и укреплениям в своих учебниках истории давно исчезнувших на этом пространстве границ.
Люди на развалинах империй
И жителям Казахстана отныне полагалось гордиться Абаем и первыми правителями Казахского ханства. Жителям Литвы — Витовтом Великим. Жителям Узбекистана — Тимуром-Тамерланом. И так далее. И все бы хорошо, да только в этой стройной картине мира, придуманной политиками и оформленной историками, есть один большой изъян. Современные люди никак не могут сопоставить свою нынешнюю жизнь с Абаем, Витовтом и Тамерланом.
Современный казахстанский историк Мурат Сембинов определяет этот парадокс так: эти истории отвечают не на вопрос «какие мы?», а на вопрос «какими были они?».
То есть на деле получается не история, а этнография. А названные герои (люди, безусловно важные и уважаемые) в сознании современных людей перемешиваются с Колумбом, Чингисханом и древними египтянами. Всё это бесконечно далеко и совершенно непохоже на их нынешнюю жизнь.
А альтернатива-то имеется — рассказы старших родственников о славном советском прошлом, собственные квартиры в советских микрорайонах, названия улиц и городов, местами получивших новые имена, но в памяти существующих еще в том, советском варианте.
Вот и получается, что в Молдове выбирают на президентских выборах просоветского кандидата, учителя в России ностальгируют по СССР, жители маленького города в Узбекистане никак не принимают новую топонимику, почти половина населения Беларуси считает себя «советскими гражданами», а в исторической памяти населения Казахстана нет ни одного события из постсоветского периода.
Советский Союз — жив, и далеко не только в России. А люди чувствуют себя живущими на развалинах древних рухнувших империй. Всё важное для них осталось в прошлом, а настоящее представляется как досадное недоразумение, которое необходимо исправить.
Почему это проблема?
История — основа самоидентификации нации. Когда нации предлагают гордиться чем-то далеким и пыльным — естественно, она начинает скучать. Самый кровавый пример такой «скуки» — нынешняя российско-украинская война. Но этот пример — далеко не единственный, постсоветские архаичные национальные истории задолго до нынешней войны создали миллионам людей кучу проблем.
Во-первых, миграция. Взяв курс на строительство «нации по крови», новые государства взялись выдавливать из себя людей второго сорта. Напомню, что только из Казахстана в 1990-е годы уехали по национальным основаниям более 800 тысяч человек.
Во-вторых, непрекращающиеся войны. Торжество архаичных историй превратило целые государства в одну сплошную «горячую точку». Скажем, без картвельского лозунга «Грузия — для грузин» конфликта в Абхазии и Южной Осетии либо не было бы вовсе, либо он был бы не таким кровавым. Ведь за что тогда, собственно, было бы воевать?
В-третьих, переток ресурсов в столицы. Да-да, и в этом отчасти виноваты учебники истории. Ведь люди во Владивостоке многие и многие годы изучают историю московских князей, а в Павлодаре — жизнь казахских ханов. Из этого рождается представление, что в регионах не было и нет ничего интересного, а вся жизнь — в столицах.
И прочее, и прочее, и прочее. Вот почему нам всем очень нужна на постсоветском пространстве новые «истории».
Какими должны быть новые «истории»
Основных принципов новых «историй» всего три.
Первый принцип: в современном мире история нужна не ради этнического самоутверждения в искусственных границах, а ради решения актуальных социально-политических задач. Точно так же, как регионы внутри стран конкурируют за качественные человеческие ресурсы, страны должны конкурировать за активных образованных людей. В этом смысле, деятельность хана Абулхаира очень важна для казахстанской историографии, но для конкурентоспособности современного Казахстана она имеет самое опосредованное значение. Куда важнее, что в 1917–1918 году Алихан Букейханов с товарищами создали на территории нынешнего Казахстана автономию Алаш — прогрессивное демократическое государство, опередившее своё время. Азия может быть демократичной, а Казахстан — родина азиатской демократии.
Второй принцип: нужно не просто перекрашивать черное в белое, а белое — в черное, нужны вообще другие даты, герои, явления. Скажем, для России было бы куда полезнее не в очередной раз обсуждать, брал ли Ленин немецкие деньги, а анализировать историю и героев Государственного совещания в Уфе в сентябре 1918 года. Когда в когда в разгар Гражданской войны два десятка региональных правительств — от Сибири до Эстонии –подписали «Акт об образовании Всероссийской верховной власти», фактически переучредив Россию на демократических федеративных началах. И пусть нам потом доказывают, что в России нет традиций низовой демократии и горизонтальной федерации.
Третий принцип: трансграничность. Существует немало деструктивных сил, возводящих в абсолют нарезанные по странной логике советских чиновников границы союзных республик, ныне — государственные границы. И совершенно неясно, зачем историкам, стремящимся в будущее, следовать той же логике. Прямо перед нами существует пример, когда совершенно разные, не имеющие никаких общих политических и исторических контекстов страны объединяются в Европейский союз, а их историки пишут истории «макрорегионов» — Бельгии и Нидерландов, Рурской области и Люксембурга, севера Италии и юга Германии. Почему же школьники в Сибири не должны изучать историю Северного Казахстана, а школьники Павлодара и Петропавловска — историю Сибири? В тех краях никогда в истории, вплоть до 1991 года, вообще не было никаких государственных границ.
Понятно, что будет сложно. Было бы легко — примеров подобных очевидно куда более полезных «историй» было бы во множестве. Но в реальности последняя принципиально новая история на нынешнем постсоветском пространстве была написана в 1898 году в австро-венгерском городе Львове. И сделал это историк Михаил Грушевский («История Украины – Руси»). Это сейчас нам кажется очевидным его концепция, что никогда не существовавшее ко времени написания этой книги государство Украина имеет собственную историю и является единственным законным наследником Киевской Руси. А для конца XIX века это была настоящая интеллектуальная революция. Которую Грушевский совершил единолично, наживши себе врагов среди ученых и ставши persona non grata в общественно-политической жизни Российской империи.
Выражаясь словами философа Карла Манхейма, Грушевский выступил в роли «создателя интерпретации мира для общества», каковая и полагается историку как представителю «интеллигенции». Прекрасный пример для современных исследователей.