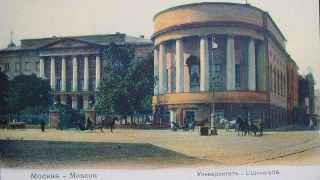Впервые опубликовано на VPost.
В 1911 г. российский академический мир потрясла цепочка событий, вошедшая в историю под названием «дела Кассо» – по фамилии министра народного просвещения Льва Кассо.
Суть этого дела вкратце была такова: в знак протеста против вмешательства властей, а именно Министерства народного просвещения, в университетскую автономию ректор Московского университета Александр Мануйлов, помощник ректора Михаил Мензбир и проректор Петр Минаков подали в отставку со своих руководящих постов. Министр Кассо не только принял их отставки, но заодно и уволил всех троих с профессорских должностей, и даже более того – запретил им заниматься преподавательской деятельностью в учебных заведениях, подчиненных Министерству народного просвещения. После этого подали прошения об увольнении более 130 человек – примерно треть профессоров и приват-доцентов Московского университета. В нескольких других университетах множество преподавателей поступило так же.
«Отставка может стать нравственно обязательною»
Что это было – своего рода корпоративная забастовка с целью надавить на власти? Демонстрация политической позиции? Акт солидарности? Обиженный хлопок дверью в ответ на оскорбление? Историки об этом спорят до сих пор. А современники? Участник событий профессор Александр Савин записал тогда в дневнике, что «при теперешних обстоятельствах подача прошения [об отставке] несомненно приобрела в глазах правительства привкус политической манифестации». Кем-то из профессоров уход в отставку, возможно, рассматривался и как способ оказать давление на Кассо, но их ждало разочарование: правительство не стало искать компромисса, а просто заменило ушедших преподавателей другими.
Профессора Владимир Вернадский, Владимир Сербский, Вениамин Хвостов и некоторые другие заявили, что отставка есть «дело их совести, их чести и личного достоинства». Для многих из тех, кто последовал за ними, главным мотивом стало стремление продемонстрировать солидарность с уже уволившимися коллегами. Была ли эта солидарность корпоративной стратегией или проявлением индивидуальной (пусть и распространенной) этической позиции? В условиях противостояния университетской корпорации с правительством единство действий было важно, и профессор Савин, не подавший в отставку, констатировал: «На меня смотрят как на изменника».
Сам он считал, что отставки преподавателей повредили университету как учебному заведению, тогда как он, Савин, ему не изменил, потому что продолжил учить студентов. Долг перед ними он ставил выше, чем долг перед профессорской корпорацией: «Корпоративные настроения должны уступить место более широким побуждениям». А в глазах большинства подавших в отставку профессоров, считал он, этот их шаг был исполнением «нравственного товарищеского долга, изъявление готовности пострадать вместе с товарищами-профессорами, и только, без политической примеси». То же самое говорил незадолго до подачи в отставку и философ Евгений Трубецкой: «Я люблю университет, крайне боюсь поэтому, что отставка с минуты на минуту может стать нравственно обязательною».
Так что же двигало людьми, которые собственными руками рушили свои академические карьеры, лишали себя гонораров за лекции и возможности вести научную работу в университетских лабораториях, а на будущее, возможно, и шансов получить полицейское свидетельство о благонадежности (оно было необходимо для устройства на преподавательскую работу), а кроме того – это тоже не следует сбрасывать со счетов – подрывали качество университета как научного и учебного заведения, лишая своих студентов возможности слушать лекции специалистов? Руководствовались ли они политическим расчетом, корпоративным духом, оскорбленным чувством собственного достоинства или сознанием нравственного долга?
«Существование в университете становится час от часу невыносимей»
Чтобы разобраться в этом, вернемся в 1905 год, когда 342 ученых, преподавателей и деятелей культуры подписали своего рода манифест под названием «Записка о нуждах просвещения». Речь в нем шла отнюдь не только об академических делах – это была политическая программа. Подчеркивая, с одной стороны, что народное просвещение является важнейшим условием общественного, экономического и культурного развития страны, авторы «Записки», с другой стороны, говорили о необходимости коренного преобразования политического строя России, установления в ней свободы, законности и парламентаризма. После обнародования «Записку 342 ученых» подписали еще около полутора тысяч их коллег из разных городов: для огромного количества работников науки и культуры забота о просвещении и забота о политическом будущем страны были неразрывно связаны друг с другом. Правительство реагировало нервно. Ректор Варшавского университета Петр Зилов, разослал сотрудникам письма с запросом, правда ли, что они подписали «Записку 342 ученых», а профессора Георгия Вульфа и еще одного коллегу дополнительно спросил, правда ли, что они собирали подписи среди коллег. Факты были всем известны, но ректор счел необходимым получить письменные признания.
Вульф отказался отвечать на это письмо. В ответ Зилов отказался предоставить ему отпуск, пока он не даст ему ответа на запрос. Письма такого ректор, по убеждению Вульфа, не имел права писать, а тем более не мог ставить предоставление отпуска в зависимость от получения ответа на него. Это свое убеждение профессор смог внушить попечителю Варшавского учебного округа Александру Шварцу, причем, насколько можно судить по его собственному рассказу, не ссылался ни на какие нормативные акты. То есть речь шла не о формальной (не)правомочности действий ректора, а о том, можно так поступать или нельзя с этической точки зрения.
Попечитель согласился, что нельзя; отпуск Вульфу, хоть и с небольшой задержкой, был предоставлен. О своем конфликте с ректором Вульф рассказал – как он написал, «считал необходимым» рассказать – в письме Вернадскому для сведения его и его товарищей. Демонстрировать при этом какую бы то ни было лояльность по отношению к своему работодателю – университету – и его ректору – своему бывшему учителю Вульф явно не считал для себя необходимым: в письме, которое, как он сам предполагал, могло быть перлюстрировано, он открыто писал, что «Зилов глуп [и] грубый насильник, с которым буквально бывает невозможно говорить. Вообще условия существования в Варш[авском] Унив[ерситете] становятся час от часу невыносимее».
Как видим, политические проблемы, связанные с репрессиями в адрес тех, кто распространял «Записку 342 ученых», и этические проблемы, связанные с нормами взаимоотношений между начальником и подчиненным в университете, сплелись воедино, и при этом условия существования в университете описываются как проявления личностных качеств Зилова. Подобная нераздельность нескольких сфер обнаруживается и во многих других письмах Вульфа.
Рассказывая, с кем он и его жена общаются в Варшаве, он четко дал понять, что люди, чьи политические взгляды были для него неприемлемы, – не хорошие люди и дружить с ними нельзя: «Живем мы отдельной жизнью от профессоров, среди которых у нас есть два семейства хороших людей – Лагорио и Сомовы, с которыми мы близки; с остальными же сойтись нельзя, не поступившись убеждениями. Бывают у нас преимущественно молодые университетские, из семинаристов – почти все очень хорошие люди […]. К сожалению, половину этих людей упрятали жандармы в цитадель».
«Не совсем свободны от этических соображений»
Варшавское отделение Академического союза (зародыша будущей партии конституционных демократов), во главе которого стоял Вульф, «в своей борьбе против бюрократической высшей школы в Варшаве» пошло, по его словам, «по одному пути с польским обществом». А многие члены советов Варшавского университета, а также Политехнического и Ветеринарного институтов придерживались правительственного курса на русификацию.
Как следует из писем Вульфа, в его глазах это было не просто разногласие по одному политическому вопросу: он констатировал, что у членов советов к нему и к его единомышленникам «развилась ненависть, переходившая границы дозволенного элементарною порядочностью». Сам он не остался в долгу и, со своей стороны, тоже дал своим оппонентам нелестную характеристику, в которой академические и моральные аспекты сливались воедино: «У нас нет совета, нет факультетов. Это все на три четверти своего состава шайка беззастенчивых проходимцев».
Вульф посчитал необходимым уйти из университета – не из-за невыносимых условий, не в знак протеста против русификаторства, не из-за невозможности вести занятия в связи с забастовками и обструкцией студентов, а потому, что остаться – значило бы, на его взгляд, стоять в одном ряду с непорядочными людьми.
Вульф начал поиск нового места работы. Однако не любой вариант устроил бы его: помимо тех плюсов и минусов разных вакансий, которые касались статуса, оплаты труда, возможности заниматься интересующими его предметами и других прагматических моментов, ему важно было занять новое место нравственно безупречным образом. Он писал Вернадскому в Москву: «Я говорю, конечно, о возможных конкурсах, полагая, что теперь это единственный почтенный способ замещения кафедр. Прося Вас об откровенности [в рассказе о наличных вакансиях], я однако же имею в виду те обстоятельства, которые делают и конкурсы не совсем свободными от различных этических соображений».
Одним из таких этических соображений была коллизия между собственной заинтересованностью в получении места и отношением к конкурентам, причем последнее было, опять же, сочетанием оценки профессиональных и личностных качеств. Подав документы на конкурс в Московский сельскохозяйственный институт, Вульф узнал, что одним из его конкурентов будет минералог, геохимик и литолог Яков Самойлов, ученик Вернадского, и тут же написал ему: «Я о нем, как Вы вероятно знаете, держусь самого лучшего мнения, как о много обещающем ученом и прекрасной личности. Положа руку на сердце, я считаю его самым подходящим кандидатом в Петров[ско]-Разум[овское, то есть в Сельскохозяйственный институт], тем более, что он до сих пор состоял профессором в аналогичном учебном заведении, и я охотно уступил бы ему место, если бы сам в этом месте не нуждался». Самойлов выиграл конкурс, а Вульф получил возможность читать курс кристаллографии в Московском университете.
Читая письма Вульфа к Вернадскому, мы видим, что он почти никогда не разделял этос (то есть представления о поведении, подобающем или не подобающем той или иной социальной роли) профессора, этос друга-коллеги и этос члена либеральной общественно-политической организации.
Такая нераздельность профессионального, гражданского и личного этоса была среди профессуры весьма распространенной. Например, когда в октябре 1905 г. по призыву РСДРП студенты способствовали тому, чтобы рабочие использовали их аудитории как площадки для политических митингов, а власти потребовали от университетов это пресечь, общее собрание Петербургского отдела Академического союза постановило, что не имеет «нравственной почвы» для этого. Схожую резолюцию принял и совет профессоров Петербургского электротехнического института.
Важно отметить, что политическая ориентация тут роли не играла: среди тех, кто в 1911 г. ушел из Московского университета, были люди, как близкие к кадетам, так и придерживавшиеся иных политических взглядов или заявлявшие о своей аполитичности. Политически мотивированное действие министра было истолковано многими не столько как акт подавления свободы собраний, ущемляющий права и интересы профессоров и студентов как граждан, сколько как действие, направленное против порядочных людей и само по себе непорядочное – как оскорбление достоинства ученых, органов университетского самоуправления и, таким образом, всей университетской корпорации – то есть, это был вопрос автономии и одновременно этики.
Точно так же и вопрос, увольняться после этого или нет, для многих преподавателей был одновременно и вопросом политической борьбы, и вопросом корпоративной автономии, и вопросом опять же этическим.
Конечно, нельзя утверждать, что позиция уволившихся в 1911 г. полутора сотен человек позволяет сделать выводы обо всех российских профессорах, которых на тот момент было уже около четырех тысяч. Но нераздельность академических, политических и нравственных аспектов в представлениях о должном и не должном поведении явно была широко распространена в среде научной интеллигенции. А Вернадский не только прямо декларировал теснейшую связь профессиональных, идейно-политических и личностных аспектов в этосе университетского работника, но и давал ей объяснение.
По его мнению, сам род занятий ученого в принципе предопределяет его политическую позицию, причем именно как личностное качество: «Научная работа развивает чувство личности и личного достоинства. Она вырабатывает свободного человека, стоящего в среднем гораздо выше того уровня, который может от души подчиняться министерству». Это Вернадский относил как к исследовательской ипостаси академического работника, так и к преподавательской: подавшие в отставку профессора, пояснял он, сочли необходимым это сделать потому, что просто не видели для себя возможности «подчиниться унижению, оскорблению, участвовать в моральном разрушении величайшего национального учреждения»; ведь, поступая тем или иным образом в обстановке правительственного давления, профессор оказывает воздействие не только на собственную жизнь, но и на будущее университета как учебного заведения.
«Профессор нарушает долг перед учениками, перед наукой, перед научным учреждением»
Наряду с этим существовало в университетской среде и иное понимание взаимоотношений между наукой, политикой и нравственностью и, соответственно, между этосами социальных ролей ученого, ответственного гражданина и порядочного человека. Отделять научную сферу от политической требовали представители движения, которое получило название «академизма», но, при всем сходстве названий, представляло точку зрения, противоположную той, которую отстаивали члены Академического союза. Совет Московского университета, возглавляемый кадетом Мануйловым, в 1907 г. провозгласил: «Вне университета мы, как граждане, принадлежим к тем партиям, программы которых разделяем, но в университете – мы только академические деятели […] Отступление от этого принципа грозит неминуемой гибелью [университета]».
Различать разные социальные роли и соответствующие им разные обязанности призывал в 1911 г. и профессор Московского университета зоолог Григорий Кожевников, отрицавший за собой принадлежность к какому бы то ни было политическому лагерю. Он подчеркивал, что «у человека есть долг перед разными лицами, делами, учреждениями. […] признав за долг перед товарищами выход в отставку, профессор тем самым нарушает долг перед учениками, перед наукой, перед научным учреждением».
По мнению Кожевникова, только люди нечуткие и непроницательные могли «неподачу» в отставку квалифицировать «как поступок трусливый, некрасивый, безнравственный и т. п.» или наоборот, «приветствовать этот акт как знак полного одобрения всех министерских циркуляров». Определяя, как следует поступить ему самому, он считал, что «ни при каких обстоятельствах не следует покидать своего поста» и «менее всего допустим уход откуда бы то ни было в виде протеста против чего бы то ни было», потому что «пока профессор может работать в научном учреждении, и пока он может принести какую-либо реальную пользу этому учреждению, он имеет полное нравственное право оставаться на своем посту»; долг его – «всеми силами своего ума и воли содействовать развитию науки и усвоению ее учащимися – и только», а «быть выразителем каких-либо политических идеалов и общественных настроений» Кожевников не считал «задачей профессора как такового». Не декларируемое, но фактическое последовательное разделение политических, научных и моральных аспектов поведения человека видим мы и в письмах младшего коллеги и подчиненного Вульфа по Варшавскому университету – минералога и почвоведа Иосифа Сиомы.
Как это ни удивительно – если учесть все гигантские перемены, произошедшие в университетской среде за последующие четверть века, – довольно похожий «этический синкретизм» мы обнаруживаем в 1930-1940 годы среди людей, считавших себя не воспитанниками и не преемниками, а классовыми и идейными врагами старорежимной интеллигенции, – студентов, которые, родившись уже после революции, были воспитаны в ленинско-сталинском духе и среди которых многие были комсомольцами, а впоследствии становились или хотели стать членами ВКП(б).
Анализ дневников, писем и мемуаров студентов и аспирантов истфака МГУ (он был восстановлен в 1934 году) показывает, что в представлении очень многих из них – причем именно людей, задававших тон среди своих однокашников, – этос социальной роли товарища совпадал автоматически и неконтролируемо с этосом социальной роли студента или ученого и этосом роли лояльного патриотичного советского гражданина. Идейно-политические ориентиры были совсем другие, отчасти совершенно противоположные, но все было неразрывно связано, и, соответственно, кто грешил против норм какого-то одного этоса, оказывался плох и в остальном. Ярчайшим выразителем этого подхода был в студенческие годы Михаил Гефтер, но среди его однокашников или тех, кто учился чуть позже, таких было очень много, и эти люди потом были учителями многих из нас в 1980-1990 годы. Откуда же такое сходство?
«Всякое уклонение от нравственных истин проявляется ложью»
Едва ли эта этическая модель могла систематически перениматься студентами 1930-1940 годов от старой профессуры: к тому времени дореволюционные кадры были частично вытеснены в эмиграцию, частично репрессированы, частично принуждены к молчанию, а многие уже вышли на пенсию или умерли. На истфаке МГУ в те годы несколько старых профессоров еще работали, и для ряда студентов именно они служили образцом твердой приверженности этосу ученого, как это описано в мемуарах, например, Арона Гуревича. Правда, в том, что касалось этоса межчеловеческих отношений, эти старые профессора лишь отчасти могли служить примером, а идейно-политические их позиции либо не проявлялись, либо были конформистскими, иначе бы они не выжили. Однако «старорежимные» люди очень редко упоминаются как ролевые модели или даже хотя бы как незыблемые научные авторитеты в студенческих дневниках, письмах, да и в позднейших мемуарах других истфаковцев. Дело было, скорее всего, не в общении с ними.
Отчасти объяснение может лежать в области психологии. Есть такая пара когнитивных искажений – «эффект нимба» и «эффект рогов»: если человек нам чем-то нравится, например внешностью, то мы склонны приписывать ему и другие достоинства – профессионализм, хороший характер и т. д.; а если человек отвратителен нам в чем-то одном, то мы очень часто склонны видеть в нем и другие недостатки, причем нам кажется, что они связаны друг с другом.
Другое – тоже, наверное, частичное – объяснение связано с историей российской интеллигенции.
Она сформировалась, когда студенты казенных университетов готовились к государственной службе, то есть службе стране, где не только не было партий, парламента и политической жизни, но прямо запрещено было публичное обсуждение любых вопросов, относящихся к ведению правительства, и поэтому все общественные проблемы обсуждались как вопросы нравственные. В этих условиях вполне естественно было сложиться представлению, что университетские дела и государственные – это, во-первых, если не одно и то же, то дела теснейшим образом связанные, а во-вторых, они суть именно проблемы соблюдения или нарушения нравственных норм, одинаковых и равно непреложных для индивида, корпорации и государства.
Иван Аксаков писал в 1861 году: «Действительная сила, действительное значение принадлежат в истории только нравственным истинам, вечным началам любви и справедливости. [… они] являются двигателями общественной жизни народов, [...] обусловливают их развитие не только внутреннее, но и внешнее. [...] Всякое уклонение от нравственных истин проявляется ложью даже во внешнем устройстве, подрывает материальное преуспеяние, подтачивает жизнь исторических обществ».
Писал он это, кстати, по поводу ситуации в Польше, и полвека спустя выросший в Варшаве Вульф, придерживавшийся совсем другой позиции по польскому вопросу, рассматривал этот вопрос все равно в нравственных категориях. Именно моральные императивы, а не интересы, заставляли многих представителей интеллигенции выбирать ту или иную профессию (особенно медицину), заниматься политической деятельностью, чтобы поменять безнравственный, с их точки зрения, политический и экономический строй, в том числе – идти в народники, в народовольцы, в революционеры, в контрреволюционеры, в диссиденты.
В той мере, в какой советские студенты были воспитаны дома и в школе носителями этого этического синкретизма, они и унаследовали его от них, и это было особенно легко потому, что советская власть тоже его культивировала, подчиняя межчеловеческие отношения и научную работу своим политическим требованиям. Хотя после 1917 года содержание норм поведения для тех или иных социальных ролей неоднократно менялось, сам принцип их единства не был дезавуирован или отменен.
Он действует и по сей день: разве нам с вами не очевидно, что они – те, кто устроил «вот это вот все», – не просто политики с неприемлемыми взглядами, но и люди непорядочные, и к тому же нули в профессиональном смысле? И рожи у них мерзкие.