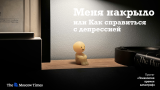На недавнем саммите генсек НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». Это высказывание наделало немало шума. Конечно, оно свидетельствует, насколько бессильной показала себя Европа перед лицом геополитических угроз. Но зависимость от американской поддержки в вопросах обороны — не единственная проблема.
Европейский союз, смелый эксперимент в области международного управления, задуманный после Второй мировой войны, достиг своего предела.
Мы наблюдаем закат Европы, упадок союза, основанного на принципах мира и дипломатии, — он больше не может эффективно реагировать на ситуацию. Сегодняшний кризис требует решительных действий — не сотрудничества и постепенного развития, призванных предотвратить войну, а признания, что война уже идет и пришло время сражаться.
В 1950-х годах, после катастрофы Второй мировой войны, европейские страны, что вполне объяснимо, отчаянно пытались найти соглашение, которое обеспечило бы мир и безопасность континента в будущем. Объединение европейских наций началось всего с шести стран-основателей (Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург), но привело к созданию организации, радикально отличавшейся и охвату от той, что мы знаем сегодня. Франция и Германия были постоянными источниками напряженности на континенте, их лидеры стремились найти способ предотвратить перерастание этих конфликтов в новую войну.
Простая идея, лежащая в основе европейского проекта, в том, что экономическая интеграция устранит угрозу войны. Страны, финансово и политически тесно связанные друг с другом, будут в большей степени заинтересованы в обеспечении мира. Сотрудничество увеличит экономическую выгоду для всех, что, в свою очередь, создаст стимулы против военной эскалации.
По мере развития европейского эксперимента он менялся не только в размерах, но и в фундаментальной природе. Его радикальная трансформация началась с Маастрихтского договора 1991 года, положившего начало Европейскому Союзу. Несколько лет спустя был создан валютный союз, появилась еврозона, а затем и Шенгенское соглашение, открывшее границы внутри Европы.
Все эти изменения проложили путь к дальнейшему росту: в 1995 году к Союзу присоединились три страны — Австрия, Финляндия и Швеция; в 2004 году, после крупнейшего расширения, единая Европа пополнилась еще 10 членами. Бывшие советские сателлиты с востока континента были приняты в союз, получили шанс на стабильность, процветание и мирное европейское будущее. Это также было геополитическим обещанием: те, кто придерживается западных ценностей и принимает правила Запада, могут стать членами европейской семьи. На протяжении всего процесса роста европейский проект продолжал придерживаться одной и той же идеи: свободная торговля, процветание и либеральные ценности — защита от угрозы войны.
К сожалению, эта идея, какой бы логичной она ни казалась вначале, не оправдала ожиданий.
Правда, по мере развития европейского эксперимента мы стали свидетелями ряда замечательных успехов. Даже многолетняя непрерывность проекта сама по себе — достижение. Но успехи союза основаны на его основополагающих принципах постепенных изменений и сотрудничества. Естественно, организация, основанная на таких принципах, порождает определенный политический стиль и определенный тип преуспевающего политика: осторожного, красноречивого, превосходного переговорщика. Институт формирует людей, входящих в него, и наоборот.
Со временем преобладающая модель поведения становится все более укоренившейся.
Проблема в том, что рано или поздно возникнет проблема, требующая отклонения от общепринятых методов работы, — крайняя угроза, требующая крайних мер. Когда это произойдет, системе, построенной на поиске консенсуса и избегании конфликтов, будет трудно принять радикальные изменения. Не говоря уже о колоссальной институциональной инерции, которую необходимо преодолеть в случае ЕС; вспомните о количестве стран, учреждений и должностных лиц, вовлеченных в этот процесс.
По мере того как в системе появлялись трещины — или, точнее, пропасти, — возникшие пространства, что неудивительно, занимали радикальные партии. Они отражают понятную реакцию общественности на неторопливый неконфликтный стиль работы, который стал доминировать в европейской политике и который, к сожалению, не годится, чтобы верно реагировать на современные вызовы. Альтернатива давно и отчаянно требовалась, но у основных политических партий ее не было. Появившиеся экстремистские партии, возможно, верно определили проблему и воспользовались ею — политики компромиссного сотрудничества недостаточно для решения современных задач, — но и экстремисты не представляют собой реальной силы, способной к резким решениям.
А решение это требует полного переосмысления того, каким должно быть европейское лидерство в XXI веке, как оно должно отвечать на новые угрозы, с которыми сталкивается континент.
Эти угрозы экзистенциальны; они исходят от России, Китая, Ирана, Северной Кореи, обширной сети террористических группировок и всех других образований, составляющих то, что можно назвать глобальной сетью авторитаризма.
Конфронтация — важнейшая часть идеологии этих режимов; в их ДНК заложено нападение на свободную, демократическую рыночную экономику и ее разрушение. Их выживание требует врагов и войны с ними. ЕС не готов противостоять внешним силам, которые фундаментально угрожают его существованию, с которыми он не может найти переговорного решение и мирно сосуществовать. Нет места политике минимизации рисков и поиска консенсуса, когда идет войну за выживание.
И давайте будем честны: сегодня западный мир ведёт войну с врагами демократии. Нам нужны институты, способные противостоять этой страшной угрозе, мобилизовать все имеющиеся ресурсы и предпринять срочные действия, а не искать уступки и обходные пути везде, где это возможно. Структура ЕС в ее нынешнем виде не была рассчитана на переход к режиму конфронтации, поскольку была основана и взращена на почве сотрудничества. Главные преимущества единой Европы принципиально не соответствуют характеру нынешних вызовов.
Помимо растущей мощи и консолидации глобальной авторитарной сети, мы наблюдаем одновременный уход Америки с международной арены. Именно поэтому НАТО не стала ответом на вызов, брошенный Европе авторитарной сетью, — в ней слишком доминируют США, она слишком он них зависит.
Легко обвинить Трампа в том, что он отступил и оставил Европу слабой и беззащитной, но он лишь обнажил то, что всегда было разрушительным изъяном в архитектуре Европы. ЕС появился и рос под защитой Америки, его формула экономической интеграции никогда не проходила проверку на устойчивость без военной мощи крупнейшей в военном отношении державы мира. Союзу никогда не приходилось действовать самостоятельно. Было бы нереалистично и неразумно ожидать, что Америка всегда будет оплачивать безопасность континента; Трамп наконец-то ударил по этому шаткому сооружению.
Европе пришлось искать выход срочно — тем временем Путин получил возможность продолжать заигрывать с Трампом, и Америка в значительной степени отходит на второй план.
Последнее торговое соглашение, подписанное с США, лишь подчеркивает зависимость Европы и ее высокие издержки. Односторонние пошлины и 750 млрд долларов, которые ЕС обязался потратить на американские энергоносители, — едва замаскированная плата за продолжающееся присутствие американских войск на континенте. Европа, неспособная обеспечить собственную оборону, цепляется за все, что готова предоставить Америка.
Пока что Европа не смогла эффективно ответить на угрозу со стороны России, для этого требуется совершенно новая, смелая парадигма европейского управления. Вместо этого мы наблюдаем, как европейские страны барахтаются, предпринимая разрозненные действия в направлении достижения своей цели, и не испытывая реального желания конфронтации.
История санкций, наложенных на режим Путина во время войны на Украине, служит прекрасной иллюстрацией. Восемнадцать пакетов санкций были подписаны, но несмотря на это Путин по-прежнему способен вести войну, поддерживать наступление на поле боя и вести бизнес с международными приспешниками. Даже после всех этих раундов санкций все еще существует множество возможностей для нанесения экономического ущерба режиму, поскольку ни одна из них не смогла нанести России решительный финансовый удар. Санкции стали примером поэтапного подхода к формированию политики, принятой в ЕС и направленной на то, чтобы мягко подтолкнуть противника к столу переговоров.
Конечно, такой подход не работает с диктатором; хуже того, он лишь подпитывает его агрессию.
Другой пример — 1 миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые должны были быть отправлены на фронт в Украину. Полгода спустя Европе пришлось признать, что союз из 27 стран не способен производить или закупать такое количество. В довершение ко всему, Россия объявила, что Северная Корея предоставила 1 миллион снарядов из собственных запасов. Одна из беднейших стран мира, по всей видимости, превзошла самый процветающий континент в поставках боеприпасов военному союзнику.
Раз нет европейских лидеров, готовых взять на себя ответственность за иной путь развития единой Европы, будущее континента вполне может быть написано в Москве. Если бы Путин напал на страну НАТО и одновременно члена Европейского Союза, это потрясло бы основы европейского единства как никогда прежде. Поэтому стоит задаться вопросом: да может ли Европа, неспособная защитить свои народы, иметь хоть какое-то осмысленное будущее?
Представляем себе встречу в верхах после бомбардировки какой-нибудь из европейских столиц с обсуждением очередного компромиссного решения! Такая встреча послужила бы разве что надгробным камнем для всего европейского проекта.
Даже если худшие сценарии не реализуются, придется констатировать, что ЕС парализован неэффективностью. Может ли сегодняшняя Европа обладать видением и возможностями для создания чего-то столь же всеохватного, как соглашение о Шенгенской зоны или о валютном союзе? Может ли она осмысленно расшириться, если тупиковая ситуация сведет ее к статусу простого наблюдателя в войне против Украины, гибридной войны против Молдовы или невоенного захвата Грузии?
Неизбежный вывод заключается в том, что ЕС рискует утратить свою значимость и исчезнуть, если сам основополагающий договор не будет кардинально изменен. Это, безусловно, грандиозная задача, но последние события высветили столько узких мест в европейской системе, она дала столько сбоев, что по мы хотя бы получили четкое представление, как должны выглядеть необходимые изменения.
И само это предложение не ново.
В 2017 году лидеры Германии и Франции выдвинули идею «многоскоростной Европы», предложив самую решительную перестройку структуры ЕС. Если бы не пандемия ковида и последовавшая за ней война России на Украине, это предложение могло бы перерасти в более активную дискуссию о регионализации Союза. Идея никуда не делась, ее можно воплощать, особенно в регионе Северной Европы и Балтии, где страны активно стремятся к укреплению интеграции в сфере безопасности и обороны и где российская угроза наиболее ясно осознается. Интересы нескольких стран Западной Европы в этом контексте явно расходятся с интересами стран Северной Европы. А в нелиберальном блоке Венгрия и Словакия с нетерпением ждут выборов в Чехии, надеясь, что новое правительство вольется в их антиевропейские и пророссийские ряды.
Но увы! сегодняшние европейские лидеры продолжают придерживаться прежнего идеала абсолютно мирного блока, продолжая провозглашать приверженность принципу ненападения как отличительную черту Европы на международной арене. Как будто адаптация к новой военной реальности обесценивает основополагающую миссию ЕС! Ровно наоборот: принятие новых, более жестких мер — единственный шанс Европы спасти себя как мирный проект, который так бережно взращивался.
Пришло время открыть новую страницу в истории ЕС. Имперские амбиции России не были ограничены Минскими соглашениями 2014 и 2015 годов, но могут быть ограничены пересмотром договоров, лежащих в основе ЕС.
Сейчас настало время для следующей итерации европейского проекта, переосмысленного и укрепленного для будущих проблем и решений.
Во-первых, единодушие. Европейский союз был основан как проект общих целей и заключил множество соглашений, призванных продвигать его видение. Достижения такого масштаба сейчас кажутся невообразимыми, поскольку не все в Европе разделяют ее общую цель. Венгрия, один из крупнейших получателей средств из фондов ЕС, активно выступает против европейского проекта. Словакия не сильно отстает. В вопросах безопасности Испания по-прежнему настаивает на том, что ЕС — это проект мира и культуры, а не коалиция, которая также должна защищать себя. Если Европа хочет выжить, ей необходимо отказаться от принципа единогласия.
Во-вторых, геополитика. Европа залечила многие раны, оставленные холодной войной, приняв в свои ряды страны восточного блока. Это расширение, пожалуй, стало величайшим геополитическим успехом ЕС. Но задача еще не решена, и впереди еще много выгодных пополнений. Население Украины, Молдовы, Грузии и Армении в подавляющем большинстве идентифицирует себя с Западом. Либо ЕС предложит этим странам надежный путь к европейскому будущему — либо враги демократии продолжат прокладывать для них пути в противоположном направлении.
В-третьих, оборона. Проект мира не может существовать, если мир не защищать. Эпоха мирных дивидендов закончилась. Должна начаться новая эра — эра, когда Европа будет отстаивать себя и своих союзников. Мирного сосуществования с путинской Россией не будет. И Европа, возможно, в конце концов поймет, что такое сосуществование с Китаем Си Цзиньпина также невозможно. Надежный американский щит безопасности уже не будет таким прочным — или надежным — как прежде. Европе необходимо разработать инструменты, которые помогут защитить ее же собственные ценности. Она должна превратиться из миролюбивого сообщества в институт, способный реагировать на угрозы реального насилия и твердо противостоять тем, кто желает ее гибели.
Европа не обречена на провал. Но для выживания необходимо понимание того, что свобода больше не бесплатна и что для ее защиты необходимо использовать все доступные средства.