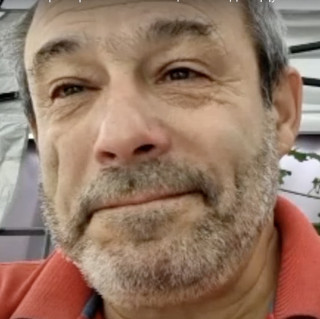И дополнительный бонус: опоздание оказалось синхронизировано с широко разрекламированной дискуссией об отношении к тем, про кого это кино снято, — к тем самым пришедшим покорять Украину «русским на войне». Которыми в итоге оказались не только те, кто на ней оказался.
Одни из нас
Даже недоброжелателя признают, что фильм как минимум не бездарен, и где-то даже талантлив, хоть, конечно, и не Ленни Рифеншталь.
Правда. Это не «Олимпия» и уж тем более не «Триумф воли» — ни по замыслу, ни по исполнению. Но это и не один из рассчитанных на быстрое лауреатство проектов, озаренных открытиями вроде того, что по ту сторону линии фронта — такие же люди, как и по эту. Но в этом и заключается первая проблема фильма: даже для тех из них, кто считает фильм талантливым, считают это знаком особой дерзости, с которой нарушаются главные табу восприятия войны.
Между тем, Анастасии Трофимовой удалось не солидаризоваться со своими героями. А это непросто. Эти герои — люди, от них зависит ее безопасность, она на той стороне, на которой «наши», а на другой, получается, «враг», накрывающий их вместе с нею дальнобойной артиллерией. Лишь однажды у нее вырывается в разговоре «нам» там, где должно звучать «вам» – а можно было бы и поправить при монтаже.
Нужно преодолевать и обаяние среды, в которой ты живешь месяцами, и, наоборот, антипатию к абсолютно чуждым людям. В общем, создать облако, прозрачное, но непроницаемое, спасительное, но необидное, не вызывающее подозрений и в идеале понятное даже тем, кто снаружи. И это важно, потому успешное преодоление стокгольмского синдрому открывало путь зрительской догадке — о том, что автором, может быть, и не планировалось.
Сама Трофимова поясняла: она хотела снять кино про обычных людей в необычных обстоятельствах. Идея не бог весть какая новаторская. Да и сама формулировка — будто отдельный троллинг и провокация: обычные люди — значит, как мы, одни из нас, значит, достойные сочувствия, хотя бы оценки в каком-то человеческом измерении.
Режиссерская война
Проблема такого кино в том, что она к самому кино отношения не имеет. Хоть никакого сочувствия в фильме нет, тема пульсирует с первых дней войны, с тех пор как журналист известной телекомпании неудачно посетовал насчет трудностей в окопах, и по сегодняшний день, когда в известной полемике с известным журналистом известная активистка призвала если не к эмпатии, то к понимании тех самых «русских на войне».
Люди из фильма не нуждаются ни в каком сочувствии. Эти люди и до войны жили в мире, с которым большинство спорящих не соприкасалось, ничего не знало, да и не обязано было знать, и только война с ее надуманными, но понятными табу поставила такой же надуманный вопрос, на который пришлось искать ответ. Может быть, слишком близки формулировки, в которых легко запутаться: дело не в сочувствии, а в том, чтобы почувствовать, как все устроено. И как не устроено.
В кино все получается намного интереснее, чем декларирует Трофимова. Дело не в том, что это обычные люди, пусть и в необычной ситуации. Дело в том, что Бучу и Ирпень как раз такие обычные люди и устраивают. Или кто-то думает, что там орудуют сплошь прирожденные убийцы?
…Скептики подозревают в фильме постановочность. И правильно делают. Без нее в таких начинаниях не обойтись. Автор может посадить человека на БТР, заставить его бриться в самых неуютных условиях и под страшный и раскатистый интершум говорить в камеру заранее согласованный текст. Но что бы ни предписал человек с камерой, говорят герои все равно то, что под камеру уже говорили и что навело автора на эту мизансцену. И ходят эти люди, и разговаривают, и сидят на БТРах так же, как сидели тридцать лет назад безо всякой камеры в Чечне.
Они вообще ведут себя одинаково везде, где горизонт жизненного планирования ограничен очередным штурмом, засадой или растяжкой. «Русские на войне» могут красоваться и привирать, но ту правду, которую они испугаются рассказать завтра, дома или в госпитале, которую будут заливать спиртом или закидывать метом, здесь они рассказывают легко. Они безбоязненно распространяют фейки про армию, которая и воюет так себе, и с контрактами жульничает. Они по-иноагентски смеются над патриотическими идеалами. Бояться уже нечего, «дальше-окопа-не-сошлешь» — непременная нагрузка к пороху, которым пропитан воздух.
Но главное — здесь вообще другая система координат «хорошо-плохо», «правильно-неправильно». Мотивация ненависти к врагу или заработка важна, но не первична. Самая меркантильная мечта после первого боя трансформируется в мечту выжить, она подминает под себя все, что было важно раньше, и больше не надо даже никем не притворяться.
С контрактником, обеспечивавшим безопасность на избирательном участке в Грозном, на выходе с которого о безопасности в те дни никто не помышлял, мы говорили обо всем, о чем говорили бы со случайным попутчиком в поезде — о футболе, о машинах, даже о каком-то кино, потом он мне не таясь и с нюансами рассказывал о боевых буднях, с подробностями на зависть любому противнику войны. А потом зашел парнишка-чеченец, судя по виду, только-только получивший паспорт, и мой собеседник, побледнев, дернул предохранитель, прицелился, все легли, и кто-то сообразив, крикнул парню что-то по-чеченски, и тот вынул руки из кармана. Лучше выстрелить, а потом пожалеть, чем не выстрелить и взорваться, — пояснил, успокоившись, контрактник.
Я видел людей, которые ехали на зачистку. Обычных, на БТРах. Дело не в том, что война делает из людей фредди крюгеров, — ради этого открытия кино снимать не стоило бы. Но у нас тут получается кино про то, как меняются табу и как к этому относиться — и хочется думать, что в изначальном сценарии все это между строк было заплаировано.
Кино не для всех
Критики, защищающие эти табу, заходят с фланга: в фильме ничего не сказано про вторжение в Украину и тем более не показано про военные преступления. Строго говоря, Василь Быков или Генрих Белль тоже ничего не писали о 22 июня или о провокации в Гляйвице. А военные преступления не делаются каждый день, да и сама война — не вечный бой. Война, как ни странно, это тягучие будни с перегруппировками, окапыванием, ожиданием — чем, собственно говоря в этом кино и занимаются. Как обычные люди.
Но в соответствии с этическим торжеством военного времени показывать улыбчивого, обнимающего жену или уже оплакиваемого ею оккупанта — значит, вызывать к нему сочувствие, или вообще допускать возможность человеческого взгляда — преступление против человечности само по себе. А в нашем кино все оказывается немного наизнанку: не война — форма нормальности, а нормальность на войне — это то, что происходит между Бучей и Ирпенем. Или даже с обобщением: между Самашками 30-летней давности и Бучей. И тут уж не к автору вопрос, что захлестнет зрителя — сочувствие или любопытство: а как, интересно, эти милые люди покажут себя в Буче? Как это уже три с половиной года — про многих знакомых, да и незнакомых тоже — что, неужто и он зигует?
Чужая смерть в Венеции
В искусстве такого кино нет презумпции невиновности. Подозрение, испытываемое к автору, важнее того, что что снимает. Можно ли пробраться с камерой к самой линии фронта без высочайшего разрешения? Вообще-то можно, хотя и трудно. Не на свой страх и риск, конечно, но договориться с воинским начальником местного уровня вполне реально, там люди разные, глядишь, и повезет.
Как именно повезло Трофимовой, мы не знаем, и слава Богу, эта тайна — ее профессиональное право. А могло не повезти, и это тоже обычная жизнь, пусть и на войне.
Только у этой жизни другие причинно-следственные связи, другое устройство времени и пространства, другие критерии. Люди по разным причинам отправились, как они думали, воевать, а оказалось — выжить любой ценой. Они декларируют самые антивоенные вещи, которые органично переходят в соловьевскую чушь из телевизора; ему не верят, а то, что они не видят противоречий, — не повод для разоблачительного осмеяния, а точный образ: война и люди в своих смыслах не пересекаются, эта отстраненность — ось, на которую нанизывается кадр за кадром.
А ближе к концу появляется сельская бабка, из всего жуткого гиперреализма которой критики увидели только боязнь возвращения ВСУ. Да, она боится. Но не потому, что Украина для нее враждебная сила. Она не боится за свою жизнь — хуже ее подвала жизнь ей уже ничего не придумает. Это угроза только представлению о мироустройстве, которое она худо-бедно, на живую нитку, из того, что было под рукой, выстроила. А под рукой портрет Ленина в школе, все жили в мире, и мир был СССР, то есть та же Россия.
И теперь как-то надо уместить в голове, что эта Россия и устроила все так, что единственным спасением для нее становятся консервы, которые ей привозят те самые «русские на войне». Получается так себе, а с ВСУ, наверное, и вовсе не получится. И бабка — единственный персонаж, которому удается хоть так что-то внутри выстроить и вместить. Она, впрочем, и единственная, кто в этом кино сначала все же дома, а уже потом на войне.
Такое кино. Непонятно только, зачем его возили в Венецию. Там всего этого, наверное, никто не понял.