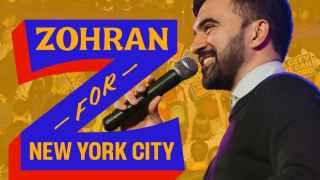Одним из примечательных событий последних недель стало ожидаемое (почему некоторые комментаторы сочли это сенсацией, я не знаю) избрание ультралевого популиста Зохрана Мамдани кандидатом от Демократической партии на предстоящих выборах мэра Нью-Йорка.
Мэр воздушных замков
В победе этого молодого политика в ноябре у меня нет никаких сомнений: его предложения настолько очаровывают среднего избирателя, что никакой рациональный конкурент не сможет ему противостоять. В программе значатся повышение минимальной заработной платы в городе с нынешних 16,50 долларов в час до 30 долларов в час уже к 2030 г.; отмена оплаты за ясли и детские сады для детей с 6 недель до 5 лет; введение бесплатного пассажирского транспорта кроме метро; рост финансирования мунициального здравоохранения; создание сети городских супермаркетов с низкими ценами, не платящими аренду за свои помещения и действующие как некоммерческие организации; заморозку цен на аренду и строительство массы новых апартаментов для сдачи внаем от имени города.
Учитывая, что стоимость жизни в городе выше средней по США, по разным оценкам, на 74-132%, а цены на жильё — в 3-5 раз, такие обещания воспринимаются на ура. Тем более что имеются и специфически нью-йоркские особенности жизни, часть из них возникла недавно — например, плата за въезд на Манхэттен в размере 9 долларов за день (о 6,90-11,20 доллара за проезд по мостам и туннелям я не говорю); парковки, которые стóят в среднем по 20 долларов в час или 40-75 долларов в сутки; или проездной на общественный транспорт за 132 доллара в месяц. (Для сравнения: 29 евро в Берлине или 51 евро в Вене).
Однако вопрос не сводится лишь к стоимости жизни.
Нью-Йорк — один из чемпионов США по неравенству: разрыв в медианном семейном доходе между его отдельными районами бывает и в сто (!) раз, что приблизительно соответствует разнице в жизненном уровне между патрицием-военачальником, путешествовавшем на римской триреме, и гребцом-пленником из тех, кто наполнял трюм и придавал судну его поступательное движение. Но несмотря на огромное средоточие богатства и массу рантье, абсолютное большинство горожан движимо стремлением к вполне обычным заработкам, ради которых они побросали родные страны и приехали в чужую: доля жителей, рождённых за пределами США, здесь составляет почти 38%, более чем втрое превышая среднеамериканскую, а доля белых — одна из самых низких в стране, 30,9%, — против более чем 75% в среднемпо США). Нет сомнения, что все эти люди с крайней симпатией относятся к идеям о перераспределении богатства, о снижении стоимости жизни и о возможности получить дополнительные блага и услуги бесплатно или с большими скидками.
Поэтому у Мамдани и возникла такая электоральная база, какой нет и не будет ни у кого из его конкурентов.
Обещания республиканцев — например, что они снизят федеральные налог, и — тут не будут восприниматься: не менее трети нью-йоркцев не платят их вообще из-за низких доходов и разного рода вычетов, а сам Нью-Йорк — чуть ли не единственный мегаполис в США, который получает от федеральных властей больше средств в виде дотаций и инвестиций, чем его жители платят в федеральный бюджет.
Замечу, что все обещания будущего мэра висят в воздухе: относительно понятные источники их финансирования — дополнительный 2-процентный налог на доходы самых богатых жителей и повышение налога на корпоративные прибыли до 11,5%, как в штате Нью-Джерси, — обеспечат от 5 млрд до 8 млрд долларов (по мнению Мамдани), т. е. при лучшем раскладе могут увеличить доход местного бюджета приблизительно на 4-6% — весь бюджет Нью-Йорка на 2026 год составляет 115,9 млрд долларов. Этой добавки явно не хватит для обеспечения намеченных дополнительных трат.
Изъяны демократии
Но результаты демократических праймериз в Нью-Йорке занимают сейчас комментаторов не столько с точки зрения экономических расчётов, сколько из-за того, какое влияние они окажут на политическую жизнь в США в ближайшие годы. Это совершенно правильный предмет для озабоченности. Выборы со всей очевидностью поставят на повестку дня два вопроса:
- о значении меньшинств — и тут следует ожидать резкого роста антисемитизма как по идеологическим причинам (постколониализм, угнетение мусульман, и т. д. — оправдание его уже начато левыми «интеллектуалами»), так и из-за экономического неравенства, поскольку в том же Нью-Йорке живет 12% евреев, и более трети из них имеют медианный доход в 150 тыс. долларов в год и выше, т. е. на 40-70% больше, чем в среднем по городу, — и «групповой справедливости»;
- об ответственности политиков — обещать можно что угодно, да и выполнять эти обещания в течение нескольких лет можно, но проблема в последствиях, и это касается как снижения налогов по Дональду Трампу с его One Big Beatiful Bill, так и повышения минимальной зарплаты по Мамдани.
Попытки соорудить большинство из меньшинств предпринимаются весьма активно как минимум с провальной президентской кампании Хиллари Клинтон, а стремления раздать всем все и в любом количестве — с ковидных времен; и тот, и другой тренд довольно новы, так что я бы не стал утверждать, что их провала можно ждать в обозримом будущем.
Что с демократией?
Победа коммуниста на выборах мэра Нью-Йорка станет знаменательным событием — и вкупе с возвращением в Белый дом Дональда Трампа она укажет лишь на два катастрофических изъяна современной демократии.
Первый состоит в том, что коллективные идентичности начинают преобладать над индивидуальной — и это естественно приводит к доминированию эмоций над рациональностью, так как сами коллективные идентичности строятся вокруг врожденных качеств человека, которые, мягко скажем, не так гибки, как предпочтения традиционного избирателя, меняющиеся в зависимости от экономической конъюнктуры и других преходящих обстоятельств.
Второй, разумеется, заключается в росте радикализма, порождаемого тем, что сейчас возникает представление о возможности любой манипуляции финансами с целью удовлетворения сиюминутных интересов граждан — и это проявляется как на левом, так и на правом фланге политического спектра: и там, и там одинаково убеждены, что в современной экономике «нет ничего невозможного».
И первый, и второй изъяны усугубляются тем, что новые средства массовой коммуникации — и прежде всего социальные сети — позволяют апеллировать к сотням тысяч людей непосредственно и без всяких фильтров (которые обеспечивали прежде традиционные пресса или телевидение), что вызывает как упрощение месседжей, так и непосредственную трансляцию пожеланий (даже самых нереалистических) в политические лозунги. И хотя можно лишь порадоваться за американцев, которые вольны и свободны сделать столь противоречивый выбор и на городском, и на общенациональном уровнях, в перспективе подобное расхождение повесток чревато серьезными вызовами.
И основной из них состоит не в том, как самоопределятся в ближайшем будущем основные американские политические партии, а в том, насколько и как скоро традиционный избиратель устанет от популизма — как правого, так и левого. Логика американского политического процесса сейчас не предполагает, что какая-то из партий притормозит на пути радикализации — напротив, последнее десятилетие свидетельствует, что запрос на крайние позиции только возрастает. Поворот как республиканцев, так и демократов в сторону традиционного центризма невозможен — поляризация с той или иной интенсивностью продолжается уже около полувека (подробнее см.: Кругман, Пол. Кредо либерала, Москва: Центр исследований постиндустриального общества и Издательство «Европа», 2009, сс. 79–84), и с недавних пор вышла за пределы США, достигнув и Европы. Правда, там многопартийная система долго препятствовала такому развитию событий, микшируя межпартийные различия и оставляя место для компромиссов и коалиций. Успехи радикалов в Европе — от Марин ле Пен и Жана-Люка Меланшона во Франции до «Альтернативы для Германии» и Блока Сары Вагенкнехт в Германии, а также массы других радикальных партий в более мелких странах – не оставляют сомнений в главном политическом тренде нашего времени.
Намного более вероятным выглядит создание «третьей партии», которой в Америке не было уже больше столетия и которая могла бы объединить как умеренных и рациональных политиков из обеих мейнстримовских партий, так и тех, кто пока не политизирован, но озабочен раздирающими общество противоречиями. Это стремление сейчас довольно сильно в США: 48% республиканцев, 53% демократов и 69% людей без четкой партийной аффилиации поддерживали идею создания такой партии ещё до победы Трампа на последних президентских выборах и до нового сдвига демократов влево — так что сейчас сторонников таких перемен стало только больше.
Последнее не гарантирует успех Илону Маску с его партией «Америка», о создании которой он обещал объявить сразу после утверждения Конгрессом трамповского «прекрасного билля» (все-таки его недавний «поход во власть» мало в чьих глазах поднял его репутацию), но сохранит важность этой задачи в ближайшие годы, сделав ее даже более очевидной после промежуточных выборов 2026 г., на которые две главные партии, вероятнее всего, выйдут лишь более радикализованными.
Однако эти перемены не наступят в ближайшие месяцы: политические процессы в развитых обществах идут медленно, так как прочность их экономических и социальных устоев достаточна для того, чтобы выдерживать довольно продолжительные перенапряжения. «Раскачивание» политических рамок может продолжаться еще довольно долго — но чем оно закончится (в частности, для Нью-Йорка), сказать сложно. В конце концов, лозунг «качается, но не тонет» (Fluctuat nec mergitur), который уже более тысячи лет остается девизом Парижа, не гарантированно применим к любым другим мегаполисам — Зоран Мамдани может пустить ко дну если и не весь Нью-Йорк, то его финансы.
Нам остается лишь следить как за коммунистическим экспериментом в рамках отдельно взятого большого города, так и в целом за эволюцией американской политики, которая становится все более захватывающей.