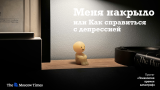Этот месседж — о необходимости сделать Европу менее зависимой от консенсуса и более способной к оперативному действию — не только соответствует духу времени, но и удивительно точно перекликается с важным историческим прецедентом. Один из ярчайших примеров того, как система консенсуса, превращенная в догму, становится источником стратегического паралича и разрушения государства, — история Речи Посполитой.
Понимание ее политического устройства, механизмов и причин распада позволяет глубже осознать, какие именно риски сегодня стоят перед Европой. Метод исторической аналогии, хотя и требует осторожности и аккуратного обращения с контекстом, нередко оказывается полезным. Он позволяет вынести на поверхность скрытые черты современной политической реальности, которые трудно заметить, глядя только в настоящее. Иногда, чтобы понять хрупкость сегодняшнего порядка, стоит заглянуть в историю — особенно в те её моменты, когда сильные, развитые и казавшиеся устойчивыми политические конструкции разрушались не от внешнего удара, а от внутренних противоречий.
К чему ведет демократия и терпимость
Образованная слиянием Польского королевства и Великого княжества Литовского по Люблинской унии 1569 года Речь Посполитая Обоих Народов (Rzeczpospolita Obojga Narodów) была не только крупнейшим государством Европы по территории (вторым после России), но и одним из самых свободных и политически развитых. В ее границах проживали десятки народов: поляки, литовцы, русины, евреи, армяне, немцы, татары, латыши. Это было многонациональное и поликонфессиональное образование, в котором католицизм, православие, протестантизм, иудаизм и ислам сосуществовали в одном правовом порядке. Хотя формальное равенство распространялось прежде всего на шляхетское сословие, в сравнении с другими монархиями того времени Речь Посполитая выделялась поразительной степенью политической и религиозной терпимости.
С политической точки зрения она также была исключением. В эпоху, когда по всей Европе воцарялись абсолютные монархии, здесь господствовала модель выборного короля и парламентарной демократии шляхты. В сейме, парламенте Речи Посполитой, заседали представители всей шляхетской корпорации, и любое важное государственное решение — введение налогов, объявление войны, реформы — требовало их согласия. Более того, действовал институт liberum veto: право любого депутата единолично остановить заседание сейма и аннулировать все принятые решения. Это рассматривалось как высшее проявление политической свободы, защита от тирании большинства.
Такая система, построенная на принципе консенсуса, долгое время работала — пока Речь Посполитая была сильна, пока существовал внутренний баланс и уважение к общему благу. В 1683 году польский король Ян III Собеский возглавил союзные войска и разгромил османскую армию под Веной, остановив турецкое продвижение в Центральную Европу. Это была вершина международного авторитета и субъектности Речи Посполитой.
Но уже в следующем столетии эта же система стала источником слабости и распада. Liberum veto, сначала призванное защищать свободы, стало причиной паралича. Назревшие реформы блокировались. Бюджет не утверждался. Более того, внешние державы — Россия, Пруссия, Австрия — научились использовать институциональные дыры в системе Речи Посполитой, подкупая отдельных депутатов и целые магнатские дома.
Сюда добавился и поведенческий фактор. Значительная часть высшей аристократии — магнаты, владевшие огромными землями и частными армиями — все чаще действовали не в интересах государства, а в пользу своих родов, клиентел и внешних партнёров. Они заключали тайные союзы, блокировали реформы, лоббировали свои интересы в сейме и саботировали попытки модернизации. Консенсус, необходимый для принятия решений, в этих условиях превращался в арену шантажа и торга. Неэффективность сейма и паралич исполнительной власти были не случайными издержками, а прямым следствием системы, где личное всегда могло победить общее. Шляхта пребывала в состоянии самодовольства и иллюзорного величия, будучи уверенной, что система уникальной «вольности» и дальше обеспечит стабильность. Речь Посполитая в итоге перестала быть единым политическим организмом — она распалась на частные интересы, внешне ещё объединенные короной, но внутренне деморализованные
Что делать Евросоюзу и НАТО?
Это состояние самоуспокоенности и политического нарциссизма удивительно напоминает сегодняшнюю атмосферу в значительной части европейского политического класса, склонного к самоудовлетворенности и имитации лидерства, а сама конструкция поразительно похожа на сегодняшний Европейский союз. Он также многонационален и основан на праве, он также гордится демократическими процедурами и действует на основе консенсуса — решения принимаются при согласии всех членов. Одно государство может заблокировать решение двадцати шести. Венгрия, Словакия, иногда Польша или Австрия играют роль современных «шляхтичей» с правом вето. Их мотивы часто не идеологические, а вполне прагматические — добиться финансовых уступок, блокировать миграционные решения, смягчить санкции, повлиять на кадровые назначения. При этом сами институты ЕС не имеют эффективных рычагов воздействия на саботаж. Логика, что была благом в условиях мира и стабильности, оборачивается слабостью в условиях кризиса и давления.
Та же проблема стоит и перед НАТО. Альянс тоже построен на принципах консенсуса и суверенного равенства. Но в его рядах всё чаще действуют государства, открыто не разделяющие стратегических целей блока. Венгрия неоднократно демонстрировала приоритет собственных интересов перед солидарностью. Турция ведёт игру на нескольких шахматных досках, отказываясь вводить санкции против России. Словакия дрейфует к пророссийским позициям. Многие государства по-прежнему полагаются на США как на гаранта безопасности, не желая увеличивать собственные военные бюджеты и брать на себя ответственность. Сами же США при Дональде Трампе стали вести непредсказуемую внешнюю политику, утратив репутацию надежного партнера и союзника. Это создаёт ситуацию, при которой НАТО, обладая огромными ресурсами, может оказаться недееспособным в критический момент — так же, как Речь Посполитая в XVIII веке.
Один из предлагаемых путей выхода — формирование ядра «НАТО 2.0»: компактного блока стран, готовых не только формально участвовать, но и реально поддерживать коллективную стратегию. Уже сегодня предпринимаются конкретные шаги: Франция, Германия и Великобритания начали координироваться в рамках Норвудской декларации и Кенсингтонского соглашения — попыток выстроить альтернативную линию западного сдерживания, способную действовать независимо от внутренних блокировок. К этому ядру могут присоединиться страны Скандинавии, Бенилюкса и Канада, создавая более тесный военно-политический союз на принципах взаимного доверия, индивидуального вклада, дисциплины и трезвого осознания внешних угроз.
Но и этого недостаточно, если не будет переосмыслен главный институциональный порок старых союзов: консенсус в больших коалициях при любом раскладе превращается в право вето. Чем больше участников — тем выше вероятность блокировки. Поэтому в любых новых конфигурациях, будь то обновлённый НАТО или реформированный ЕС, необходимо перейти от принципа единогласия к системе взвешенного голосования, основанной на пропорциональном вкладе стран-участниц — военном, финансовом, технологическом, разведывательном. Только такая система может гарантировать дееспособность и ответственность. Одна страна — одно вето — это путь не в демократию, а в стратегическую импотенцию.
Речь Посполитая погибла не от слабости армии, не от потери легитимности и не от поражения в великой войне. Ее разрушил внутренний механизм паралича — неспособность к действию, институциональная самоблокировка, превращение свободы в саботаж, нежелание поступиться в частном ради защиты общего достояния. Эта история — не просто абстрактный урок, а прямое предупреждение современному Европейскому союзу и НАТО. Свобода, права, процедуры — всё это важно. Но в условиях внешнего давления они не могут быть важнее способности принимать решения.
Европа не может позволить себе быть жертвой очередного liberum veto. Либо она трансформируется, став субъектом с волей, дисциплиной и механизмами действия, либо рискует повторить судьбу одной из самых передовых и свободных держав своего времени — державы, которая исчезла потому, что индивидуальные интересы победили общий, а самоуспокоенность и нежелание принимать трудные, но необходимые решения оказались сильнее инстинкта выживания.