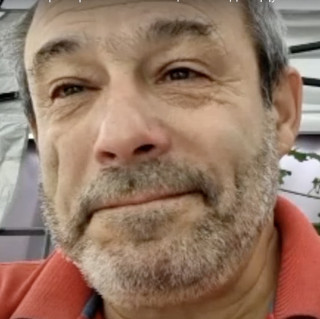Вашингтонская церемония примирения Армении и Азербайджана требовала ответа Москвы, и она его дала — возможно, даже слишком оперативно. Высказав в первых строках стандартное удовлетворение по поводу того, что мир лучше, чем война, представительница российского МИДа Мария Захарова резюмировала: «Примирение Армении и Азербайджана должно быть интегрировано в региональный контекст, основано на балансе интересов и уважении приоритетов соседних государств».
То есть будто специально решила подтвердить опасения тех, кто предупреждал: Москва не смирится с тем, что ее интересы в историческом примирении никто учитывать не собирается.
Интриги не получилось. Уже на следующий рабочий день после встречи в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснился с российским президентом. А судя по гневу, который обрушили в те же дни пропагандистские информресурсы, от Владимира Соловьева до правоверных блогеров, на Азербайджан, Армению было предписано не трогать. Кроме довольно вялой ремарки Константина Затулина, что вашингтонские начинания не соответствуют интересам армянского народа, ничего особенно не запомнилось. Во всяком случае, по сравнению с теми раскатами, которым сотрясали эту политическую среду до Вашингтона. И, возможно, только инерцией затухания можно объяснить намек Захаровой о готовности Москвы сопротивляться ее отстранению от Южного Кавказа любыми средствами.
Казалось бы, признаваться в эдаком не очень логично, даже если бы дела именно так и обстояли — а обстоят они совсем не так. Или, как минимум, не совсем так. И важнее, возможно, другое. Трамп, как и в российско-украинском сюжете, ставит на того, кого считает победителем, а то, что осталось, предлагает проигравшему.
В той же степени Москве остается, наоборот, ставить на слабого. И в этом есть своя логика.
Партия проиграна. Но отложена
Вся карабахская и вообще южнокавказская интрига как раз будто и создана, чтобы если не вернуть словам их первоначальное значение, то хотя бы увидеть нюансы в их слишком привычном звучании. Например, концепция насчет российского влияния на постсоветском пространстве, в частности, на Кавказе, которое было, а теперь исчезло, на ней основано предположении, что оно было самоцелью, а это не так.
В каждом конкретном случае имеются конкретные задачи, в соответствии с которыми и адаптируются старые мифы. В разные эпохи у Москвы были разные мотивации в модерировании карабахского конфликта — упрощенно говоря, от абстрактно-имперских поначалу до все более прагматичных, чем ближе дело было к развязке. То, что Москва поддерживала конфликт, — половина правды, и не самая интересная. Москву вполне устраивало и урегулирование — но в нужный момент и так, чтобы к распределению его плодов она успела первой. Именно так все и выглядело в ноябре 2020 года, когда точка в 44-дневной карабахской войне означала долгожданную перспективу монопольного, пусть даже на паях с Турцией, контроля над огромным коммуникационным хабом, который можно было торжественно открыть после примирения Баку и Еревана и соответствующей разблокировки всех местных границ.
Тогда еще никто не догадывался, что партия Москвой уже проиграна. Сама логика этого урегулирования делала ее ситуативным союзником Баку, требовавшего в виде фактической контрибуции по сути экстерриториальную дорогу в свой нахичеванский эксклав через территорию Армении. Как предполагалось, под контролем российских пограничников, и Баку, казалось бы, такой расклад устраивает. Мнением Еревана никто по понятным причинам не интересовался. Ему предлагалось довольствоваться тем, что за открытие Зангезурского коридора ему будет оставлен Лачинский, соединяющий Армению с Карабахом, но теперь уже через отвоеванные Азербайджаном территории. Возможно, Москва уже тогда догадывалась о грядущем лукавстве, о том, что Лачинский коридор все равно обречен вместе с самим Карабахом.
Но в планы Азербайджана точно так же не входил и российский контроль над коридором в Нахичевань. Однако даже не это стало венцом этой фатальной для Москвы объективности. Отказ Баку от обязательств по Лачинскому коридору стал ясным сигналом Еревану: раз Азербайджан меняет свою позицию по ту сторону восстановленной границы, то Ереван и по эту может точно так же обойтись с зангезурскими надеждами Москвы. Что Ереван и сделал, отказав ей в анонсированном после 44-дневной войны контроле над проходящей о армянской территории дороге, на которую уже готовились заступить российские пограничники
Это, конечно, выглядело вызовом Москве. Но на самом деле, феномен был шире и важнее: по сути это стало началом переформатирования самого процесса урегулирования, который становился все более двусторонним, и не только из-за давления Баку, пытавшегося избавиться от невыгодных ему посредников в виде Запада.
Ереван тоже довольно быстро научился извлекать пользу из процесса, монополистом которого переставала быть Москва.
Дождавшиеся Трампа
Но если восстанавливать слова и их смыслы, то и полноценного посредничества здесь никогда и не было. Минская группа, долгожданное свидетельство о смерти которой, написанное в Вашингтоне, осталось подписать в Брюсселе, всегда давала понять, что любой статус-кво ей дороже обострений и рисков, а статус-кво заключался в фактическом отторжении Карабаха от Азербайджана. Так что Трамп не первый, кто ставит на сильного, просто роли диаметрально поменялись.
Такая концепция Запада не противоречила и подходам Москвы, которой по большому и было отдано урегулирование, в том числе и другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, французским и американским. Потому нет ничего странного в том, что даже когда отношения Запада и России вошли в окончательный клинч, Минская группа была едва ли последней площадкой, на которой продолжались конструктивные обсуждения, возможно, и не только по карабахской тематике.
Собственно, этим и обусловливалось долгое время то, что называлось российским влиянием.
В самих Армении и Азербайджане его конкретика тоже выглядела не столь тривиальной. Да, стилем армянского руководства долгое время было следование в фарватере Москвы, подкрепленное соответствующей мифологией на историко-геополитическую тему. Но и это следование было тем более демонстративным, чем сильнее это руководство хотело переадресовать все вопросы и недоумение граждан по поводу управления страной Москве. Ответственность за Армению, в соответствии с этой мыслью, Россия должна нести по той же причине, по которой не строит ее критиковать за недостаточно эффективное исполнение этой ответственности: Москве нужен ее форпост на Кавказе, и потому никто, кроме нее, за Армению биться не будет.
Но не было тайной, что никто в Москве биться за Армению не собирается, и тем более, с Азербайджаном. Потому что именно он всегда и для всех из всего богатства южнокавказского выбора был главным призом. Еще с советских времен Кремль и азербайджанскую элиту, выпестованную Гейдаром Алиевым, связывали особые неформальные взаимовыгодные и щедрые отношения. Все 22 года своего правления, вызвавшие на исторической встрече в Вашингтоне зависть Трампа, Ильхам Алиев освобождался из-под бремени этой элиты, и может быть, только теперь, в силу политических усилий и естественных биологических процессов добился значительного ее очищения.
Даже если бы не случилось трагедии с самолетом, сбитым над Грозным, кризис в отношениях Москвы и Баку был неизбежен. Азербайджан слишком долго нарушал в последние годы свой традиционный баланс равноудаленности и от России, и от Запада. Теперь все совпало. Приход во власть технократической, свободной от влияния Москвы и в высшей степени лояльной молодежи. Все, что можно было получить от Москвы в ходе интенсивного сближения последних лет, получено.
Плюс Турция. И плюс Трамп.
Москва на обочине
Москва, действительно, утратила инициативу на Южном Кавказе. Не только, кстати, из-за украинской войны — она, скорее, если и оказала влияние, то опосредованное, сменив акценты в мотивации многих игроков, тех же Турции и Азербайджана. Процесс изменения южнокавказского формата был неизбежен, как кризис в отношениях Москвы и Баку, может быть, разве что он принял бы другие, не столь вызывающие формы. Но именно в силу объективности этого процесса ожидания оптимистов и тревоги патриотических российских алармистов по поводу изгнания России из южнокавказского рая отдают явным драматизмом.
Во-первых, Южный Кавказ постепенно становится частью столь обширного и политически значимого региона, с таким количеством участников и переплетающихся сюжетов, что ни одна игра в нем больше не может увенчаться нулевой суммой. Да и сама встреча в Вашингтоне – не столько повод для разговоров о результатах, сколько сама результат того, что было сделано до Трампа и без Трампа. Стороны в достаточно надежной степени отодвинулись от линии огневого соприкосновения — и это дело самих Баку, который и без дальнейших рисков добился всего, чего хотел, и чем-то даже больше, и Еревана, для которого даже локальное обострение сегодня может стать политическим форс-мажором.
Может быть, два дополнительных голоса в заявке для Нобелевского комитета и окажутся решающими, но едва ли для истории тот факт, что что Алиев и Пашинян поставили эту точку именно в Овальном кабинете, станет более запоминающимся, чем участие России в трехстороннем заявлении 9 ноября 2020 года, которым завершилась вторая карабахская война.
На самом деле куда более важными в Вашингтоне были поиски хотя бы рамочной формулы послевоенного мира, и здесь, похоже, речь тоже шла не столько о его возведении, сколько о более традиционных с точки зрения стиля Трампа вещах — рекламе самой стройплощадки. Именно заявленные права на нее, а не конкретные проекты, работают на повышение политических акций Трампа, как прежде подобные подходы он использовал в своей бизнес-практике, пусть в жанре плутовского романа, но довольно эффективно.
Здесь, возможно, будет искать себе место и Москва. Ведь частью подходов Трампа, помимо ставки на победителя, является фрагментирование ответственности, что снижает и его собственные риски. Возможно, столь пристальное внимание к Ирану, который, казалось бы, не в том состоянии, чтобы кого-то всерьез заинтриговать своими угрозами. Но и Тегеран довольно быстро сбавил тон, возможно, получив объяснения из всех важных столиц, включая Вашингтон.
И, возможно, Москву.
Трамп ставит на сильного, и эта логика подталкивает Москву искать шансы в игре на понижение, то есть, в новой имитации защиты интересов Армении, и в этом качестве ее позиция даст ей возможность если не повысить свой удельный вес во всем этом процессе, то хотя бы сохранить то, что можно сохранить. Что бы ни появлялось на заявленной стройплощадке, пока инфраструктурные мощности на ней контролирует Россия. Железнодорожная сеть отдана ей в концессию еще в 2008 году, и все это время она находилась в режиме ожидания всеобщей разблокировки коммуникаций — перевозки по самой Армении и немного в Грузию Россию, понятно, интересовали мало.
Москве же принадлежат и газотранспортные ресурсы Армении, и пока не понятно, кому и зачем строить новые мощности, если можно договориться о старых. Тем более что с точки зрения реальности проекты Трамп-маршрута с его небывалыми инфраструктурными новациями пока исполнены в том же жанре, что и соглашение с Украиной о разработке редкоземельных элементов, о котором как-то никто не вспоминает с самого торжества его подписания.
Безусловно, если бы обстоятельства сложились, Россия не задумываясь использовала бы силовые ресурсы. Но сегодня она их использует скорее в качестве напоминания о своей репутации, в реальности же проверять крепость взаимных союзнических обязательств Баку и Анкары она станет едва ли.
Сегодня в этом нет и необходимости. Легко быть генералом Гурулевым и грозить глобальным расширением СВО, но люди, принимающие решения, надо полагать, понимают, что сегодня можно прожить и без контрольных пакетов. Наверняка сейчас снова оживится тема открытия железной дороги через Абхазию — с тем же результатом, что и прежде, но с новым политическим шумом, которые многие примут за политическую повестку. Да и Никол Пашинян, вероятно, до выборов, которые пройдут через 10 месяцев, еще не раз конструктивно посетит Москву.
И в кризисе с Баку остается опция монаршего примирения. Правда его графики уже будет диктовать Баку.