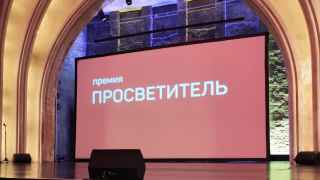Вначале коротко.
Что такое премия «Просветитель». Исключительно нонфикшн, что понятно из названия. Вручается в 4+1 номинациях. Точные науки — гуманитарные науки, лучший перевод в точных науках — лучший перевод в гуманитарных науках. Плюс «Политпросвет».
Технически было так: два зала (один в Москве, другой в Берлине), между ними весь вечер переключались. Если сравнивать с «Оскаром», например, то выглядело так, будто «Политпросвет» — «Лучший фильм года», а четыре других победителя… ну тоже хорошие, но второстепенные.
Потому что в «Политпросвете» в жюри — сплошь иноагенты и террористы, да и в авторах они же. А в других номинациях много представлена «Альпина паблишер» — она и сильный игрок на рынке, и не хочется издательство подставлять. Поэтому прямо виден был водораздел: тут мы щас покуражимся, а потом другие номинанты, про выхухолей и Пиноккио.
Ну и вот, значит, «Политпросвет». Номинантами в этом году были:
- Олеся Герасименко. «Не закрывай глаза. Журналист на войне и в эмиграции»;
- Григорий Голосов. «Власть в погонах: военные режимы в современном мире»;
- Команда против пыток. «Анатомия распада. Как и почему права человека перестали быть ценностью в современной России»;
- Ксения Лученко. «Благими намерениями: Русская православная Церковь и власть от Горбачева до Путина»;
- Никита Смагин. «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями».
Победила Ксения Лученко про РПЦ, но председатель жюри Екатерина Шульман отдельно отметила «Анатомию распада». Мол, важная книга.
И все, кто выходил на сцену в Берлине, говорили, что премия «Просветитель» — «важный институт».
Ну. Я, как человек, который немного знает о премиальных процессах в России, замечу, что ни одна книжная премия (и наверное, в широком культурном смысле вообще ни одна премия в России) — не институт. Потому что институты создают — совсем грубо — социальный капитал. А я не помню ни одного случая, чтобы статус писателя, получившего премию, в том числе «Просветителя», как-то изменился на следующий день.
Никто не проснулся знаменитым.
Кажется, единственный пример — Михаил Елизаров и его «Библиотекарь», который получил «Русского Букера» и вызвал много возмущения в тот момент, в далеком 2008 году, а книжная блогерка Галина Юзефович даже рецензию написала типа «писатель слабый, роман плохой» (и это каждый раз очень смешно). Но даже тогда — роман великий хоть с премией, хоть без, а то, что некоторые люди, даже образованные, — глупы, ну так это и без «Библиотекаря» понятно.
То есть. Когда у вас на сцене люди снова и снова говорят, что наша премия – уже не премия, а институт, есть странное ощущение, что они не утверждают, а уговаривают. Хорошо, институт, а давайте представим, что в следующем году «Просветителя» не будут вручать — что изменится?
В любом случае.
Из теории мы знаем, что институты реализуются через действия, а их побочный эффект, «радиация», которую институты производят, — создание, уточнение, перекодировка и перетрактовка идеологических установок.
Считается, что идеология — твердое ядро, гранитный камушек в груди. Не совсем так: идеология (по модулю: и с минусом, и с плюсом) — довольно пластичная вещь, которая в том числе помогает «объяснять мир». Или даже так: идеология помогает, глядя на безумие мира, приводить его в порядок; набор установок, которые объясняют, что все происходящее — это так и должно быть, так и нормально.
В этом смысле утверждение, будто премия «Просветитель» — институт, само это утверждение должно нас насторожить. Мы должны задаться вопросом: а какую идеологическую установку нам сейчас демонстрируют?
Я пока не прочел ни одной из номинированных книг, поэтому могу ориентироваться на названия и аннотации, но даже так понятно, о чем все говорят. Круг тем неширок: война и эмиграция, военные и силовики, права человека, жизнь под санкциями.
Выбор любой из этих книг в качестве победителя демонстрирует какую-то позицию.
Вот, например, Олеся Герасименко, «Не закрывай глаза». Допустим, она бы победила, тогда что этим фактом говорит жюри? Мы помним, что идет война, и обращаем внимание общественности на этот факт. Не закрываем глаза. Идем и смотрим. Дорогие россияне — алло!
Или «Всем Иран» Смагина. Дорогие россияне, мы, живущие за пределами России, хотели бы обратить ваше внимание: есть шанс, что описанные в этой книге стратегии выживания будут вам полезны.
«Военные режимы в современном мире». Туда же.
«Анатомия распада». Хотя вот эту книгу я листал и замечу, что это совсем не книга в классическом смысле — а довольно жуткое в своей занудности и педантичности перечисление пыток и насилия. А главный гуманистический посыл книги — в самом факте ее существования.
Победитель — деконструкция новейшей истории Русской православной церкви — выглядит эдаким компромиссом. Совсем грубо говоря (мы же знаем статистику посещения церквей и т. д.): мне лично кажется, что тема РПЦ интересна примерно всем, кто купит один тираж.
Понятно, что Ксения Лученко, может быть, написала лучше всех. Другие победители в других номинациях почти все говорили, как им нравилось писать (переводить, редактировать, подчеркивать нужное). Удовольствие от текста — аргумент. Но, как мне кажется, в случае с нонфикшн — не главный аргумент, не может быть главным аргументом. Не думаю, что те, кто делал «Анатомию распада», и те, кто потом ее читал, прямо получили массу удовольствия в процессе.
Поэтому вопрос — почему именно книга об РПЦ стала победителем — остается открытым. И он же читается и в другую сторону.
Еще раз. У нас есть «Политпросвет» — своеобразная возможность высказаться на политические темы, не опасаясь преследования, потому что все участники за пределами России. Плюс еще номинации, в которых номинироваться и побеждать безопасно. И вот в номинации «Политпросвет», которая не номинация, а трибуна, — жюри решило не говорить о войне, правах человека или жизни под санкциями, а решило поговорить о церкви.
Почему?