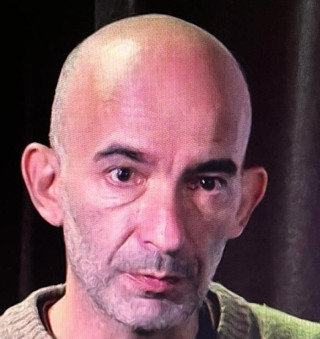Подводя итоги первого этапа обсуждений, посвященных этой программе, хочется обозначить несколько дискуссионных линий, которые кажутся важными.
Публикация подготовлена медиапроектом «Страна и мир — Sakharov Review» (телеграм проекта — «Страна и мир»).
Почему переходное правосудие?
Диктатура — время беззакония и нарушения прав человека. Законом в это время становится воля диктатора. После диктатуры остается множество преступлений, совершенных по велению, с благословления, санкции или в интересах режима. Их авторы защищены системной безнаказанностью, она не дает расследовать преступления, пока политический режим сохраняет силу.
Эти преступления нельзя просто забыть. Идеология всепрощения — плохой союзник в деле демократизации. Правда не может стоять на неправде, а верховенство права — на преступлениях, оставшихся нерасследованными потому, что так велела партия (фюрер, президент, дуче, хунта, спецслужба). Общество просто не поверит, что в будущем право будет иметь значение, если прошлые преступления остались без суда, а их жертвам не возмещен ущерб.
Восстановить право, нарушенное в период диктатуры и вооруженного конфликта, возместить ущерб жертвам политических преследований, раскрыть правду о преступлениях, осудить виновных, принять меры по недопущению подобных преступлений в будущем, — вот главное, что нужно сделать. Этот комплекс мер получил название переходного (восстановительного) правосудия (ПП, transitional justice). Без ПП невозможен переход от общества, основанного на беззаконии, к демократии и верховенству права.
Меры ПП в разном сочетании применялись в Германии и Японии после Второй мировой войны, а в 1970-х — в Греции и Аргентине после военных диктатур. Несколько стран использовали их для исправления расовой и национальной дискриминации.
Но особенно широким стало применение ПП с 1990-х годов — после геноцида в Руанде, войны в экс-Югославии, гражданской войны в Сьерра-Леоне, геноцида и преступлений против человечности в Восточном Тиморе. В Камбодже созданный в 2003 году трибунал разбирался с преступлениями красных кхмеров в 1975–1979 годах. В ЮАР комиссия правды и примирения выясняла последствия геноцида. Во множестве стран всех регионов мира ПП преобразило способ, каким люди вспоминают о войнах и диктатурах, жертвах и героизме, репрессиях и конфликтах.
СССР и постсоветскую Россию эти процессы, увы, почти миновали. При Хрущеве реабилитация затронула лишь часть людей, подвергшихся политическим преследованиям. Сталинские палачи получили персональные пенсии, дожили до старости и до сих пор почитаются в силовых структурах. КГБ продолжил убивать несогласных. Избежали суда компартия и тайная полиция и после распада СССР. ФСБ унаследовала черты КГБ, и вторая попытка подвести черту под тоталитарным прошлым тоже оказалась неудачной.
Плохо проработанное прошлое вернулось.
Именно поэтому огромная кропотливая работа, которую сделали юристы Николай Бобринский, Глеб Богуш, Григорий Вайпан, Наталия Секретарева и анонимный соавтор, кажется мне большим вкладом в будущее. Их доклад прочерчивает путь, проделать который в свое время получилось у Испании, Аргентины, ЮАР и других стран. Нет никаких оснований думать, что Россия не может последовать их примеру.
Но, как показывают обсуждения программы «100 дней», у общественности есть вопросы. Не будем от них отмахиваться.
Это страшное слово «люстрация»
Люстрацией в России 1990-х можно было пугать детей. Это слово звучало почти как «расстрел». На самом деле люстрация — мягкая мера. Это всего лишь ограничение избирательного права, запрет работать на госслужбе и заниматься публичной деятельностью (например, преподавать) — на несколько лет. Он нужен, чтобы оградить новое общество от старых элит, желающих сохранить влияние на управление государством, но не изменивших своих взглядов, привычек и практики.
После падения СССР люстрации не проводилось, хотя демократы несколько раз выдвигали эту идею. В 1990-х ее блокировал Борис Ельцин: начинать люстрацию надо было с него самого. Люстрировать себя, отказываясь от власти, полученной, как считали многие, ценой разрушения СССР, Ельцин не собирался.
Власть компартии в СССР была всеобщей. Поэтому в России начала 1990-х казалось, что, в отличие от Восточной Европы, «других людей взять неоткуда». Так думали, например, диссиденты-правозащитники, сооснователи «Мемориала» Сергей Ковалев и Арсений Рогинский. Бывшие члены КПСС работали в правительстве, бывшие комсомольцы создали крупные холдинги, а экс-сотрудники КГБ заняли места в руководстве банков и промышленных компаний.
Страх перед люстрацией велик и сейчас. «Так придется люстрировать полстраны», — критикует авторов «100 дней» один из участников обсуждения программы, организованного проектом «Страна и мир». Как преодолевать сопротивление тех, кто подпадет под люстрацию, спрашивает он. И кто будет бороться с преступностью, если люстрировать полицейских и судей за участие в политических преследованиях?
Еще один аргумент от тех, кого пугает люстрация: о ней не надо говорить сейчас, чтобы не разочаровать потенциальных сторонников перемен, среди которых есть «разочаровавшиеся зетники». «Пока опустить» стоит и тему выплаты компенсаций гражданам Украины за агрессивную войну. Но если жертвы преступлений лишены компенсаций, а участники государственного террора уходят от ответственности, то преступления повторятся! Скрывать планы наказать преступников смысла нет: за программу «Мемориала» они в любом случае не проголосуют.
Авторы «100 дней» предлагают люстрировать не всех, кто работал в силовых структурах, а лишь тех, кто участвовал в государственном терроре — политических преследованиях с целью устрашения общества, подавления протеста и инакомыслия. Руководство силовых структур предлагается на 15 лет лишить права заниматься госслужбой, связанной с применением насилия (силовые органы, суды) без запрета избираться. Рядовые сотрудники могут сохранить посты, если осознали, что нарушали Конституцию, и продолжают работу под надзором люстрационной комиссии, считает соавтор «100 дней» Николай Бобринский.
К кадровым проблемам люстрация может привести только в судейском корпусе. С 2021 года политические приговоры выносили более 11 тыс судей (около половины). Быстро заменить половину судей — задача нетривиальная, но Бобринский уверен, что нужное количество профессиональных и честных юристов в России найдется.
За основную массу полицейских можно не беспокоится: в отличие от руководства, им программа «100 дней» сулит что-то вроде курсов повышения квалификации. В России больше 2 млн силовиков, люстрация в предлагаемом варианте может коснуться нескольких десятков тысяч, преимущественно руководителей, полагает соавтор программы «100 дней» Григорий Вайпан.
Итак, люстрация — мягкая мера. Жесткая — расследование преступлений, совершенных в условиях системной безнаказанности, и уголовное преследование виновных. После объединения Германии люстрации было подвергнуто около 55 тыс. человек, а реальные или условные сроки в 1990-х и начале 2000-х получили всего 132 партийных руководителя и сотрудника спецслужбы Штази. В последующие годы суды против сотрудников «Штази» были единичными.
Не ждем перемен
«Настоящие 100 дней будут наполнены шагами совершенно в другую сторону», — написал мне старый приятель, возмущенный моим рассказом о программе «100 дней после Путина». «Власть принадлежит не Путину, а ГБ, и будет без него такой же», — откликнулся еще один наблюдатель. Оба предельно пессимистичны: «Живи еще хоть четверть века — // Все будет так. Исхода нет. // Умрешь — начнешь опять сначала. // И повторится все как встарь…»
Жизнь научила их: все будет, как было, а кто думает иначе — фантазер и мечтатель. Такими взглядами удобно оправдывать решение эмигрировать и «сжечь мосты». Но совершенно невозможно логически и исторически доказать, что страна защищена от перемен и превращена в заповедник, где время остановилось.
Еще один мой знакомый, социал-демократ с более чем 30-летним стажем, оставшийся после начала войны в РФ, тоже видит в тексте «сплошные благоглупости». Он уверен, что российская власть, которая завершит конфликт с Украиной на основе международного права (вернув РФ к границам 1991 года), «долго не протянет»: будет свергнута или проиграет на свободных выборах сторонникам Путина из-за настроений ресентимента, которые овладеют массами.
Многие противники Путина в РФ с этим согласны: если отторгнуть от России ее территориальные завоевания, реваншизм приведет к еще большей беде. По греческому преданию, Минотавр в Лабиринте требовал раз в 9 лет семерых юношей и 7 девушек на съедение. И что же, РФ, пока не найдется Тесей, нужно будет раз в четверть века выдавать по 2-3 региона из «ближнего зарубежья», чтобы ее реваншизм не распространился на «дальнее зарубежье»? Нереалистично.
Весьма скептичен и Владислав Иноземцев — он считает, что преобразования могут быть успешными, только если Россия после Путина будет не предоставлена самой себе, а начнет интегрироваться в мир, где норма — правовой порядок. Владислав ставит очень важный вопрос: «Как вселить в российское общество интерес к реформам и создать коалицию в их поддержку». Но он находится за гранью и программы «Мемориала», и моих рассуждений по ее мотивам. Между тем сам Владислав уверен, что вменить чиновникам и силовикам ответственность за преступления против россиян и Украины не удастся: первое вызовет глубокий внутренний раскол, а второе объединит население против репараций.
Поэтому он предлагает парадоксальный способ добиться желаемых перемен в России — инициировать их из Европы. Инкорпорация России в евроатлантические структуры даст успех в реформах и гарантирует безопасность Запада.
Очевидно, и эта идея, реалистичность которой менее очевидна, чем реалистичность программы «100 дней», не приближает нас к ответу на вопрос, как вселить в россиян интерес к реформам и создать коалицию в их поддержку. Накопленные недоверие и вражда, сильная разность в геоэкономических интересах станут надежным барьером для евроинтеграции России. Получить внутри евроструктур страну с радикально другими взглядами на все — в чем тут выгода Европы? А естественный процесс сближения будет очень долгим.
Менять ради России правила вступления Евросоюз точно не будет. Как показывает опыт Грузии, для успеха здесь важно, чтобы желание присоединиться долго сохранялось и у народа, и у правящих элит. Так что на роль «волшебной палочки» идея евроинтеграции в случае России, в отличие от Восточной Европы не годится. Вопрос о движущей силе реформ и ее постоянстве, который авторы «100 дней после Путина» не ставили, остается открытым.
Распад?
С противоположной стороны критикует «100 дней после Путина» за нереалистичность украинский философ Алексей Панич. Он уверен, что предложенную «Мемориалом» программу может осуществить лишь «сферическая Россия в вакууме», а единственный способ сделать Россию либерально-демократической — это ее деколонизировать. Солидаризируются с Паничем аналитики Аарон Леа и Борух Таскин: «Изнутри надежд на реформы нет». Конечно, статус-кво выгоден элитам, а изменение устойчивой системы всегда сложно себе представить. Путинский режим свою резистентность к внешним и внутренним кризисам доказал многократно.
Корень российского авторитаризма Леа и Таскин видят в ее колониальной природе. Их вдохновляет идея разом избавиться от множества проблем и болячек — имперская структура, авторитаризм, правление спецслужбы, сырьевая экономика. Но если порознь с этими проблемами еще можно работать, то сценарий, когда все взрывается в один миг, можно пожелать лишь врагу: такие преобразования часто бывают кровавы, а конструкции, образующиеся в результате, очень неустойчивы.
Мне сложно понять и тех, для кого фетишем является территориальное величие России, и тех, кто сделал ставку на ее дробление. Да, в среднем демократические страны меньше автократий. Часто это объясняют относительной культурной гомогенностью небольших стран, что облегчает достижение компромиссов. Но в последние годы в этих выводах возникли большие сомнения. И уж точно никому из политологов не придет в голову предлагать дробить страны ради демократизации осколков. Распад происходит (или не происходит) совсем по другим причинам.
В отношении России такие предложения — не редкость. Причина понятна: секта свидетелей «великой России» принесла окружающим народам и самим россиянам много бед. Чем меньше размер соседа, тем слабее исходящая от него угроза, ее проще купировать. Но приверженцы регионализации РФ не рассказывают, как наступит желаемое ими будущее. Поэтому предмета для обсуждения здесь пока нет.
Идентичности, которые могли бы стать основой для распада России, не сформировались, и ФСБ зорко следит за тем, чтобы этого не произошло. Они могут вырасти только при либерализации. Война в Украине подрывает конструкцию РФ как многонационального государства и ставит под вопрос его устройство (по форме федерация, по сути — унитарное государство, кроме Чечни). Но когда, как и, главное, по чьей воле может произойти распад, может ли он быть желателен для большинства, — это сейчас вопросы из области ненаучной фантастики.
Панич, Леа, Таскин подменяют разговор о «100 днях» спекуляциями о возможном распаде России (о котором в мемориальской программе нет ни слова). Причина понятна. Война с Украиной связывает части России кровью и преступлением. Понимание преступности путинской аферы может стать мотором дезинтеграции, а программа переходного правосудия (ПП) — оправданием «бытия вместе»: нужно признать ответственность, восстановить нарушенное право, компенсировать ущерб жертвам, наказать виновных. Понимая это, сторонники дезинтеграции хотят заранее дискредитировать идею ПП, чтобы повысить шансы своего сценария. Хотя любой подсчет покажет, что страны реализуют меры ПП намного чаще, чем распадаются.
Успешные постпутинские преобразования могут быть настойчивыми и постепенными. В 2024 году целую книгу об этом опубликовал замечательный политолог Григорий Голосов. Шаг за шагом добиваясь демократических преобразований, поначалу умеренных, оппозиция сможет подвести общество и к переосмыслению прошлого. Но на это понадобится не 100 дней, а десятилетия, как в случае Германии, Испании, Аргентины. Это очень сложно, но шансы есть.
***
В программе «100 дней» не описано, как люди, разделяющие ее идеи, окажутся у власти, констатирует бывший дипломат Борис Бондарев. Но это и не было задачей программы. Она иная — описать с юридической точки зрения, что нужно сделать, чтобы страна повернула к демократии и верховенству права. Ключ к успешным переменам, верно замечает сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук, находится внутри России, ее общества, а чтобы оно смогло высказаться, «нужно дать голос людям».
Изложенный в «100 днях после Путина» сценарий даже близко не выглядит наиболее вероятным. 100 дней могут превратиться в 50 лет, а путинская система — продержаться 20-30 лет после Путина. После ее краха страна с немалой вероятностью останется в руинах: в социальном, правовом, психологическом и моральном отношении это будут развалины с нулевым уровнем доверия, низким социальном капиталом, всеобщей ненавистью, страхом и озлобленностью.
Вполне реальные сценарии «путинизма без Путина» и военной хунты не предполагают ни демократизации, ни восстановления верховенства права, ни мира с Украиной. Программа «100 дней» описывает не самый вероятный, а лучший сценарий. И описывает его только с юридической, а не политической, экономической или социальной стороны.
Предложенные в программе меры могут быть применены и полностью, и частично. Из продуманной программы-максимум легко сделать программу-минимум — под требования момента. А вот наоборот — не получится. Поэтому работа ЦЗПЧ «Мемориал» имеет огромную ценность вне зависимости от того, как будут развиваться события в реальности.