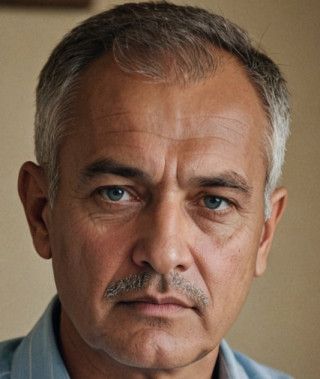Распад империи – не трагедия, но освобождение: мир сбрасывает с себя ее тяжкое иго.
Сэр Найэл Фергюсон,
шотландский историк, из книги Empire: The Rise and Demise of the British World Order
Россия в 1917 году «слиняла за 3 дня», но потом собралась в СССР и продолжала угрожать миру, обещая весь его захватить. Австро-Венгерская империя распалась за время Первой мировой войны, Сен-Жерменский и Трианонский договоры этот распад лишь закрепили. Третий рейх исчез мгновенно, почти как Россия в 1917 году. Османская империя гнила 100 лет, распадалась с 1908 по 1922 годы, а ее ядро, ставшее Турецкой Республикой, продемонстрировала удивительный цивилизационный взлет только в 1990–2010 годах.
СССР распадался в быстрой фазе примерно два года (после вывода войск из Афганистана), а на самом деле — не менее 35 лет, после принятия «концепции мирного сосуществования» (1956 г.) и нанюхавшись «духа Хельсинки» (1975 г.), которых он и не смог пережить, и только уникальная личность Михаила Горбачева — ну не был он готов силой и большой кровью удержать империю — превратила некогда единую страну в набор разбежавшихся от Москвы государств, часть из которых состоялась и вступила в ЕС и НАТО, а часть, как Украина, продолжает выковывать свою идентичность в войне с бывшей метрополией.
Дискуссия о распаде РФ всегда сопровождается недоверием, всеми этими «не может быть», подозрениями в конспирологии, нацистскими дискурсами «Родина или смерть» или «Нет Путина — нет России», который весьма логично превращается в «Зачем такой мир, если там не будет России».
Среди критиков нашего подхода нет ни одного, кто бы попытался всерьез озаботится самой возможностью конфедерализации или насильственного распада страны, драйверами и последствиями этих процессов. Впрочем, какая-то дискуссия возникла в статьях Вадима Штепы, остальные аналитики безмолвствуют, вероятно, опасаясь ядовитой темы.
Нас также упрекают, что мы не патриоты. Но по словам Харари, патриотизм — любовь к соотечественникам, мы же предлагаем демонтировать систему власти РФ.
Напомним кратко основные тезисы, с которыми почти никто не соглашается: одни — из высокомерия, другие — из интеллектуальной трусости, третьи слишком заняты, четвертые находятся на содержании Кремля, пятые, таких большинство, привыкли жить с закрытыми глазами.
Но сегодня пришло время глаза раскрыть и обсуждать самые неудобные темы, включая необходимость распада РФ. Об этом и поговорим.
Империи как звезды: цикл расширения и коллапса
Говорить, будто РФ «слишком велика, чтобы распасться», — значит не знать истории цивилизации: империи рушились всегда. Они расширяются, а потом сжимаются, точно звезды, превращаясь в карликов. Империя Александра Македонского распалась при его наследниках, и территория, бывшая ее сердцем, давно перестала быть мировым центром.
Голландия была мировым гегемоном — управляла торговыми путями, колониями, океанами, а сегодня это компактная страна в ЕС с мощной экономикой.
Испания, захватившая когда-то полмира, — теперь региональная европейская страна с сильной экономикой и влиянием на испаноязычные страны, которые обратным ходом влияют и на нее саму.
Не только историки, но и экономисты, например, Рэй Далио, описывают «большой цикл» империй как повторяющуюся схему: подъем, пик, стагнация, распад, эта логика действует независимо от идеологии или географической размерности. Сам факт, что империя есть, не то что не гарантирует ее бессмертия, наоборот, гарантирует ее распад: статус империи — и ресурс, и проклятие, и РФ, наследовавшая имперские замашки и форму от Российской империи и СССР — не исключение. История доказывает: распад — не катастрофа, а закономерная трансформация, и вопрос не в том, «может ли» это произойти, а в том, как и когда это произойдёт, и кто и как сумеет сделать процесс управляемым, необратимым — и хорошо бы бескровным.
Фрактальность империй: СССР и РСФСР
Когда мы говорим о необходимости распада РФ, критики привычно возражают: «Это невозможно, ведь РФ — не СССР, здесь нет 15 союзных республик с собственными конституциями». Такие возражения строятся на мифе о монолитности, а в действительности РФ лишь фрактальный слепок Союза, уменьшенная конструкция, воспроизводящая его принципы.
СССР был федерацией — союзом национальных республик, каждая из которых имела собственную конституцию, государственные символы и языковые права. Внутри некоторых союзных республик были автономные республики и области. Союзная республика могла вести хозяйственные отношения с другими союзными республиками и имела прописанное в конституции СССР право на выход, даже школьные дневники и официальные бланки были двуязычны.
И это не было формальностью: закреплялась институциональная память о субъектности, ощущение политической «местности», которое проявилось в конце 1980-х и стало основой для «парада суверенитетов». РФ унаследовала ту же геометрию, и автономные республики в ее составе (16) получили собственные конституции — в отличие от областей и краев, которым достались только уставы; были сохранены официальные языки наряду с русским, возникли собственные парламенты и правительства. В 1990-е годы происходил не формальный, а реальный торг с центром о праве на ресурсы, внешнеэкономическую деятельность, налоговые доходы, относительную свободу выборов, закрепленную в Конституции РФ. То была попытка конвертировать советскую автономию в настоящую субъектность.
Таким образом, РФ — это не «новая империя» без внутренней дифференциации, а уменьшенная копия СССР, с той же многослойностью национальных элит, ресурсных анклавов и культурных идентичностей. Большие расстояния, слабая инфраструктура и этническая мозаика не исчезли с распадом Союза, а стали центробежным фактором уже в границах бывшей РСФСР. Эта фрактальная схожесть означает, что инструменты, которые привели к распаду Союза, — экономические диспропорции, недовольство в региональных элитах, культурные и языковые права, символическая субъектность — ведут к схожим процессам и в РФ. Но есть и важная разница: если СССР закреплял субъектность юридически, то РФ после 2000-х систематически уничтожала ее. Путинская «вертикаль власти» — от отмены выборности губернаторов до уничтожения права на родной язык — была сознательной стратегией цементирования потенциальные разломов, но не ликвидировала исходную мозаичность, а лишь приглушило её. И именно поэтому, как и в конце 1980-х, сегодняшняя РФ живёт с тем же законсервированным потенциалом распада, который однажды уже проявился и привел к распаду СССР.
Полураспад: федеративные договоры и асимметрия 1990-х годов
Многослойная конструкция внутренней субъектности РФ на краткий миг в начале 1990-х вдруг показалась на публике: Федеративный договор 31 марта 1992 года (на самом деле — комплекс из трех договоров: отдельно республики, отдельно автономные области и округ, отдельно края, неавтономные области, Москва и Петербург) должен был закрепить отношения центра и регионов, но его вовсе не подписали Чечено-Ингушская (уже де-факто развалившаяся на независимую в буквальном смысле слова Чечню и формировавшуюся Ингушетию) и Татарская автономные республики; Башкирия договор подписала, но добилась еще и специального приложения к нему, которое, как тогда писали, опиралось на декларацию о государственном суверенитете Башкирии — речь шла о правах республики на недра и даже о собственной налоговой системе; дополнительный документ потребовался и для Якутии, республика получила отдельные права на доходы от разработки недр (в основном речь шла об алмазах).
К 1998 году было заключено сорок шесть двусторонних договоров о разграничении полномочий — чем не контуры будущего распада РФ, нарисованные не публицистами, а самой властью? РФ, несомненно, потеряла часть субъектности в пользу большей федеративности или даже конфедеративности, если вспоминать тогдашнюю Ичкерию (Чечню) с ее конституцией, институтами власти и экономической базой в виде грозненского нефтеперерабатывающего комплекса проектной мощностью до 24 млн т сырой нефти в год. Республики приняли собственные конституции с двумя государственными языками (напоминание всем тем, кто носится сегодня с кувалдой «русского языка»), в школах сохранялось преподавание на родных языках.
В 1997-м разгорелся конфликт вокруг нового паспорта РФ: исчезла графа «национальность», пропали страницы на языках республик. Татарстан обсуждал не больше не меньше введение собственного паспорта и закон о «республиканском гражданстве» и некоторое время даже выдавал российские «внутренние» паспорта собственного образца, с республиканской символикой, другие республики протестовали против унификации, навязываемой из Москвы.
С экономической стороны действовали селективные трансферты — Москва в 1992–1994 годах направляла больше средств туда, где был выше риск сепаратизма и ниже электоральная поддержка центра, и это было рационально: дешевле купить лояльность, чем воевать, как в Чечне. Татарстан, Башкирия и Якутия оказались в числе выигравших от этой стратегии. Оформилась даже идея «Уральской республики», просуществовавшая более трех месяцев — хотя скорее всего, то был не более чем инструмент торга с центром.
Так и появилась асимметрическая федерация, где одни субъекты имели договорные полномочия, а другие — только общие нормы Конституции. То был период полураспада, но с конца 1990-х начался обратный процесс: отмена договоров, унификация законодательства, свертывание языковых прав.
1990-е годы в истории РФ — не «случайные уступки», а краткая эпоха, когда страна желала стать конфедеративной, с внутренним многообразием, закрепленным в договорах, бюджетах и паспортах со страницами на национальных языках. Прецедент, что ни говори.
Демонтаж асимметрии
Придя к власти, Путин чуть ли не первым делом учредил институт полномочных представителей президента в специально и спешно созданных федеральных округах — чтобы удушить региональную вольницу. В 2003 году Чечня, правда, не по причине полпредов, а под жесточайшим военным принуждением отошла клану Кадыровых; в 2005 году Башкортостан под давлением Сергея Кириенко (тогда полпреда, а сейчас ответственного за внутреннюю политику) лишился исключительности, записанной в приложении к Федеративному договору, Татарстану (стараниями того же Кириенко) стали «забывать» продлевать особый статус.
За унификацией последовала силовая фаза — укрепление вертикали, создание Росгвардии как инструмента федерального силового влияния в регионах, пошла зачистка региональной субъектности.
Затем был реформирован Совет федерации — губернаторы и спикеры региональных парламентов были заменены назначенцами. К 2004 году отменены прямые выборы глав регионов. Логика этих шагов была проста: региональные элиты должны утратить самостоятельные каналы влияния, чтобы не возникло даже намека на федерализацию, которую Кремль считал и называл сепаратизмом.
Кремль реформировал налоговую систему, замкнув основные доходы на федеральный бюджет и превратив бюджетные трансферты в инструмент тотального контроля над регионами.
Схожий процесс шел в языковой политике. В 1990-е двуязычие было нормой республиканских конституций, школьные программы поддерживали обязательное изучение родных языков, но с 2017 года введена «добровольность» изучения, прокуроры начали проверять учебные планы, а местные законы о языках фактически лишились силы. Так исчез последний публичный маркер субъектности — язык как политический факт.
Кремль, очевидно, страшится распада по модели СССР, но не может устранить причин асимметрии в федерации. Этническая, ресурсная и культурная мозаика осталась, хотя и потеряла институциональную форму; Кремль демонтировал видимую конструкцию, но не снял фундаментальные противоречия, которые, несомненно, проявятся, как только давление центра ослабнет.
Драйверы распада
Ключевой — перспектива фактического (даже при тактическом сохранении международно не признанных оккупированных территорий) военного поражения в Украине: без юридической формулы капитуляции, но с вымыванием ресурсов и падением субъективного ощущения «центра как гаранта побед». Мобилизационная нагрузка ложится прежде всего на национальные республики и периферию: Бурятия и Тува несут военные потери, несоизмеримые с их долей населения в РФ, что уже фиксировалось независимыми и академическими исследованиями, и это накапливает у регионов чувство, что «платят» они, а политическая рента за «победу» — у Москвы.
Второй драйвер — экономическое истощение: международные санкции, технологический разрыв и зависимость от трансфертов оставляют регионам роль просителей при падающей базе доходов. Там, где в 1990-е у республик были договорные инструменты торга, сегодня остаются только «целевые» деньги из центра — и политические условия их получения, что увеличивает счет, имеющий быть предъявленным в какой-то момент Москве.
Третий драйвер — символическая политика, где трения уже стали публичными. Осенью 2025-го в Думе возник конфликт: генерал-депутат Владимир Шаманов резко критиковал переименование бывших казачьих станиц в Чечне — «стираете названия», «это история нашего государства». Для центра тут защита «общего наследия», а для Кадырова — правомерное укрепление чеченской идентичности.
Спор в Думе определяет федеральную повестку, а значит, вопрос о границах субъектности снова возник и политизируется.
Четвертый драйвер — замена гражданской идентичности этнонациональной. Вместо инклюзивной формулы «россиянин» в официальной культуре закрепляется «я русский» как единая норма лояльности. В столичных масс-кампаниях работает, но плохо транслируется на многонациональные республики: часть аудитории воспринимает этот сигнал как исключающий их из будущего. Песня певца Дронова (Шамана) «Я русский» недаром сперва обрела гигантскую официальную популярность, а затем была срочно придушена: универсальный смысл лозунга так и не сложился.
Пятый драйвер — управленческое выгорание вертикали: структуры, удерживающие федерацию от распада, вроде Росгвардии, опираются на кадровую и материальную основу, которую война и санкции размывают. Любая волна бюджетного стресса, любая серьезная военная неудача может привести к открытому политическому конфликту, в котором федеральные структуры смогут выбирать, чью сторону занять: Кремля или региона.
Сценарии и международные прецеденты
Идея распада крупных государств — не публицистическая сенсация, а область, которую десятилетиями разрабатывают академические и экспертные центры. Ещё в 1990-е годы американский политолог Дэниэл Трейсман показал, как в России работают «селективные трансферты»: Москва платила одним регионам больше, другим меньше, удерживая федерацию не общей стратегией, а адресными материальными подачками. Это помогло отложить кризис, но одновременно закрепило асимметрию, превратив финансовую помощь в инструмент управления политической лояльностью.
Сегодня эта логика исчерпана: трансферты больше не компенсируют реальных потерь, полномочия региональных начальников урезаны, а обязанности расширены, — «неравенство обмена» стало серьезным фактором раздражения в регионах. Те же научные школы, которые анализировали СССР, Югославию, Эфиопию и Судан, моделировали сценарии, в которых многонациональные государства распадаются не «случайно», а по предсказуемым траекториям. RAND Corporation, Carnegie Foundation, Chatham House, Гарвардский Davis Center, Колумбийский Harriman Institute— все они выпускали доклады, где четко обозначены триггеры: военное поражение, экономический шок, блокировка каналов внутреннего диалога.
Именно эта триада сработала в 1991-м в СССР, и именно она угадывается в нынешней РФ.
Важный элемент таких сценариев — управление рисками после распада. Прецеденты Боснии, Косово, Камбоджи и Ливии показали, что международное сообщество способно устанавливать протектораты, контролировать полицию и суды, а также брать на себя хранение или уничтожение тяжелого вооружения. Германия после 1945 года прошла через принудительную денацификацию и десятилетия внешнего контроля, ЮАР после отмены апартеида — через жесткую международную верификацию реформ, Судан и Южный Судан — через мониторинг границы и раздел нефтяных доходов.
Эти кейсы учат не только тому, как распадаются государства, но тому, что последствиями распада нужно и можно управлять. Для РФ это значит, что дезинтеграция не обернется хаосом. Протектораты над ключевыми регионами могут временно защитить права меньшинств и стабилизировать переход, разделение финансовых потоков — обеспечить жизнеспособность новых образований.
Все это не фантазия, а отработанные механизмы.
И конечно, необходимо лишить Москву сакральной роли, она может быть только крупным узлом — финансовым, логистическим, культурным, — но не осью, вокруг которой вращаются смыслы и ресурсы. Это снимается институционально: распределенные центры принятия решений, ротация общих органов по городам, собственные бюджеты и внешние партнерства регионов без «прописки» в администрациях «при Москве». Судебные и регуляторные институты должны располагаться не в одном месте, а быть выстроены по сетевому принципу. Такой разбор монополии центра — не жест против «столицы», а способ лишить имперскую модель ее главного инструмента: права определять для всех, кто они и как им жить.
Конфедеративное устройство как альтернатива
Конфедеративное устройство — хороший способ перевести распад из взрыва в управляемое деление. (Не в последнюю очередь: конфедерация решит и проблему ядерного оружия, от которой стынет кровь.) В отличие от классической федерации, конфедерация предполагает не вертикаль, а горизонтальный договор, в котором каждый субъект получает право закрепить свою идентичность, внутреннюю экономику и даже элементы внешней политики. Такой формат особенно важен для регионов, которые исторически тяготеют к соседям. Татарстан и Башкортостан — к тюркскому и к исламскому мирам, Бурятия — к Монголии и буддийской Азии, Якутия — к Аляске, Калининград — к Польше или ФРГ, Карелия — к Финляндии. В советское время эти векторы подавлялись, но не исчезали; в 1990-е они вновь проявились, но были зацементированы Кремлем.
Конфедерация делает их не угрозой, а частью конструкции: регион может иметь собственные соглашения о торговле, образовательных обменах, культурных проектах, а через общий парламент — координировать общую инфраструктуру, валюту и транспорт.
Прецедентов масса. Швейцария веками строила кантональную систему, где каждая единица имела собственную внешнеэкономическую повестку, а потом постепенно выстраивала общую.
ОАЭ — пример, где каждый эмират имеет собственные связи, но общий центр обеспечивает координацию.
Даже Евросоюз — конфедеративный механизм, который позволил странам сохранить свои векторы развития, но интегрироваться на уровне правил.
Для РФ этот сценарий может означать, что отдельные территории, вышедшие из-под контроля Москвы, не замыкаются в «суверенных гетто», а становятся частью управляемой сети. Где-то это может быть протекторат ООН или ЕС, где-то — прямой договор с соседней страной, где-то — совместный режим использования ресурсов. Конфедерация Московия (или другой центр) в таком варианте будет не новой «метрополией», а координатором, хабом, брокером — без права аннексии и диктата.
Такой подход снимает главную иллюзию империи: что безопасность обеспечивается единым кулаком. Наоборот, он показывает, что безопасность можно собрать как мозаику — из множества субъектов, каждый из которых знает, что его границы и культура не будут уничтожены центром.
Императив конфедерализации и распада
Запад, привыкший к «дивидендам мира» (Буш — Тэтчер) после распада СССР и увязший в процедурах, долгое время питался иллюзиями о реформировании РФ, и только сейчас столкнулся с суровой правдой: Россия превратилась в этакий гигантский «Хамас», да еще и обладающий всеми признаками государства и суверенитета, и она может процветать исключительно за счет агрессии и территориальной экспансии, а общество в этой стране пропитано самым кошмарным изводом имперской идеологии. Подобно пришельцу из «Терминатора-2», РФ неустанно пересобирается после каждой неудачи, постоянно угрожает глобальной стабильности. Выживание цивилизованного мира сегодня зависит от конфедерализации или извне индуцированного распада России, поскольку в ее системе, контролируемой ФСБ и основанной на пропаганде, отсутствуют внутренние стимулы для цивилизационных реформ, а состоявшиеся реформы 1990-х, которые вывели РФ в разряд цивилизованных государств, Путиным обращены вспять.
Сам народ не способен осознать, что ему навязаны ложные цели общественного развития, которые, впрочем, он всеми силами поддерживает, и готов быть с Путиным вплоть до войны с остальным миром или — если что-то пойдет не так — этот народ безусловно поддержит уничтожение мира вместе с самим собой, ведь «Мы в рай — а они просто сдохнут».
Авторитарная структура власти РФ, поддерживаемая огромными природными ресурсами и уникальным репрессивным аппаратом безопасности, ставшим государством (об этом много писал историк Юрий Фельштинский), сопротивляется демократизации и движению в сторону цивилизации с ее процедурами, эмпатией, осуждением агрессии, стремлением в будущее. Российские элиты, разбогатевшие на коррупции и на возможности оторвать у страны сладкие куски за малую цену, не заинтересованы в демонтаже системы; население, воспитанное в страхе перед властью и плавающее в околоплодном комфорте националистических мифов о величии Родины, ставит приобретенную стабильность выше свободы. Предложения о постепенных реформах — юридических чистках или европейской интеграции — игнорируют эту реальность, поскольку у целого народа напрочь отсутствует политическая воля, что явилось следствием и царского, и большевистского правления.
Гибридная война Кремля, от нападения на Украину до ставших уже постоянными провокациями против стран НАТО демонстрирует, что РФ изначально (и возможно, институционально) настроена на конфликт, а не на мирное развитие. Как и у «Хамаса», российская идентичность связана с завоеванием и уничтожением соседей, а не с компромиссом и преимуществами сосуществования в мире с другими народами и государствами.
Военное поражение РФ — единственный катализатор, способный запустить процесс распада империи: под контролем победителей, как в свое время гитлеровская Германия; добровольной федерализации ожидать не приходится. Кремль многому научился и на распаде СССР, и на «цветных революциях», и на технологиях смены власти в других странах и заранее предупреждает появление альтернативных центров власти, свободных людей и идей, убивая любых появившихся лидеров, таких как Немцов или Навальный. Убивает Кремль и за меньшее — за песни и книги, за памфлеты и юмор, за любое проявление инакомыслия. Россия, лишенная имперского ядра и идолологического кремлевского центра, должна быть конфедерализирована и насильственно разделена на автономные государства под международным контролем. По-иному не получится. Иначе мир будет иметь дело со 140 млн воинов «Хамаса» с ядерным оружием.
Выбор невелик.
Что для этого нужно
Запад обязан понять, что только распад России или, в крайнем случае, ее перевод в конфедерацию может гарантировать ему существование, поскольку доктрина сдерживания (1945-1991) или профитабильного взаимодействия (1991- 2022) оказались драйверами постоянного возрождения России в своей самой страшной и нелепой форме — со всеми этими претензиями на звание народа-богоносца, с навязыванием диких форм правления и лживыми «традиционными ценностями». Только конфедерализация и распад на дюжину независимых государств может нейтрализовать ее постоянную угрозу миру.
Важнейшим вопросом станет устранение с территории РФ ядерного арсенала и смягчение этнических конфликтов, это потребует контроля ООН и ЕС, но будет вторичным по отношению к демонтажу имперской машины.
Дезинтеграция или конфедерализация — не путь к хаосу, а спасение, гарантирующее мир, свободный от постоянной угрозы со стороны РФ.